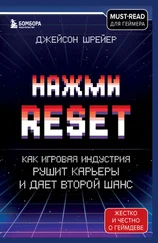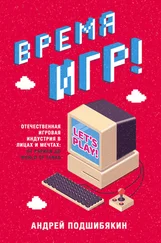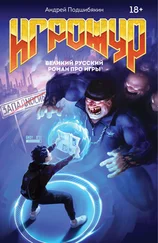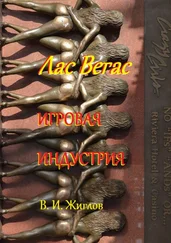Путь в спонж-миры был непростым. Андрей рассказывает в нашем телефонном разговоре уже сейчас, в 2019 году: «Мне кажется, многим издателям нравится, чтобы [после предыдущей игры] разработчик остался им должен и сразу подписал следующий контракт». Действительно, это распространенная практика в игровой индустрии. «После «Вангеров» мы этого избежали, но остались без издателя. Мы понимали, что есть еще 1С, начинали с ними общаться, но потом я узнал, что между 1С и «Букой» было джентльменское соглашение не переманивать друг у друга разработчиков – и еще много лет назад они договорились, что «те ребята из Калининграда вам, а другие ребята нам». И когда мы остались одни, мы на последние деньги стали самостоятельно делать следующую игру – «Мехосома». Мехосомой назывался квазимногопользовательский игровой режим в «Вангерах», на основе которого КранК хотел сделать походовые гонки. «Мы развили свою графическую технологию Surmap, там появились очень классные штуки – туман, текстуры; все стало хорошо». «Мехосома» уперлась в финансовые трудности: после дефолта 1998 года и событий, описанных в главе про «Вангеров», K-D Lab была предельно истощена. «Наверное, надо сказать, что я плохо умею отстаивать свою точку зрения, – продолжает Кузьмин. – Если все вокруг начинают ныть, я не могу стукнуть по столу кулаком и сказать, что все будет по-моему. Не дал мне Бог этого. А арт-директором студии и моим тогдашним партнером была [бывшая] жена, с которой мы ссорились каждый день».
Как бы там ни было, «Мехосома» не выжила. «Мы испугались, перекроили все в [более традиционную] трехмерную графику и поехали по игровым выставкам». Новая итерация «Мехосомы» скоро получит название «Самогонки», но еще до этого момента привлечет внимание профессиональной публики на международных мероприятиях EGF и Game Developers Conference. «Но игра эта мне никогда не нравилась. Я не то чтобы ее стыдился, просто… Не я это. Не мое». «Самогонки» тем не менее позволили K-D Lab преодолеть, как это называет Андрей, инкубационный период. «После дефолта нам нужно было перетерпеть полтора-два года на макаронах»; игра помогла это сделать. Издательство 1С выступило дистибутором – то есть, не вкладываясь в разработку, взяла на себя распространение и продажи. В результате, вспоминает КранК, «Самогонки» «оказались и для них, и для нас финансово положительными».
Еще одна безусловная польза от этой игры лежала, если можно так выразиться, в ментальном измерении. «В какой-то момент работы над ней я понял, что будущее за многопользовательскими играми. Я сам в сюжетные игры почти не играю – мне нужно, чтобы на другой стороне была чужая воля или хотя бы очень сложный AI [искусственный интеллект]». Пользовательский интернет в то время уже активно развивался, но до полноценного, как это называется на околоигровом жаргоне, мультиплеера еще не дорос, – как мы уже поняли, Кузьмина такие вещи никогда не останавливали. «Я пошел искать людей, которые в этом разбираются. Мне нужен был сложный сайт с регистрацией пользователей, откуда [напрямую] могла бы запускаться игра. Дальше ты прямо на сайте нажимал кнопку «Играть», и если у тебя в привод воткнут DVD, то сайт запускает онлайн трехмерный клиент с игрой в сессионном режиме. А после окончания сессии тебя выбрасывает обратно на сайт. Серега нам помог это сделать». Даже по сегодняшним меркам это смелая концепция, но на рубеже веков ее смогла реализовать для КранКа другая калининградская компания – молодая на тот момент «Битрикс» (сейчас – «1С: Битрикс»), основанная Сергеем Рыжиковым. Тем самым Серегой, которого упоминает Кузьмин. «Потом он признался, что наш заказ, достаточно большой по тем временам, помог им выжить». Иными словами, «Самогонки» сыграли заметную роль в жизни компании, оценивающейся сейчас в десятки миллионов долларов. «Я пытаюсь сказать, что технологически это тоже был прорыв, только не совсем в игровой сфере. Тогда у меня еще возникла идея микроплатежей». Здесь нужно пояснить, что микроплатежи сегодня являются одним из доминантных форматов игровой монетизации и почти единственным возможным – в онлайновых и мобильных играх. Точно объем внутриигровых микротранзакций посчитать трудно, но, по некоторым оценкам, он составляет 50–60 миллиардов долларов в год. КранК продолжает: «Тогда, правда, не было технической возможности это делать. Я был в одном шаге от того, чтобы изобрести микротранзакции!» И в одном из параллельных пространств вероятностей, вне всякого сомнения, этот шаг был сделан.
Читать дальше
![Андрей Подшибякин Время игр! [Отечественная игровая индустрия в лицах и мечтах: от Parkan до World of Tanks] [litres] обложка книги](/books/405324/andrej-podshibyakin-vremya-igr-otechestvennaya-igrova-cover.webp)
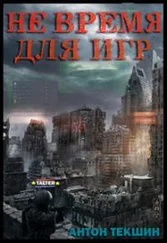

![Джейсон Шрейер - Нажми Reset. Как игровая индустрия рушит карьеры и дает второй шанс [litres]](/books/433306/dzhejson-shrejer-nazhmi-reset-kak-igrovaya-industriya-thumb.webp)
![Андрей Подшибякин - Игрожур. Великий русский роман про игры [litres]](/books/433877/andrej-podshibyakin-igrozhur-velikij-russkij-roman-p-thumb.webp)
![Андрей Сергеевцев - Живая игра - P.A.R.A.D.O.X. [litres самиздат]](/books/436939/andrej-sergeevcev-zhivaya-igra-p-a-r-a-d-o-x-litr-thumb.webp)
![Андрей Приданников - Лунные игры [litres самиздат]](/books/437546/andrej-pridannikov-lunnye-igry-litres-samizdat-thumb.webp)