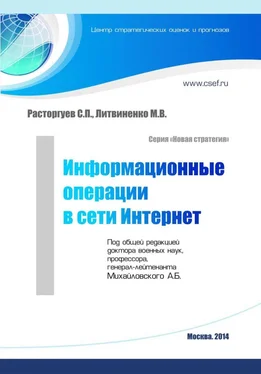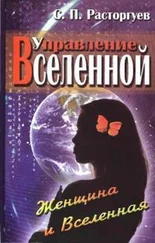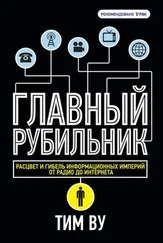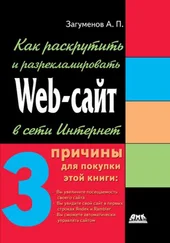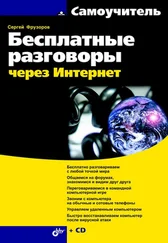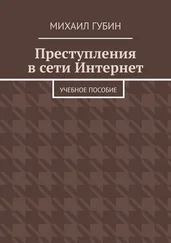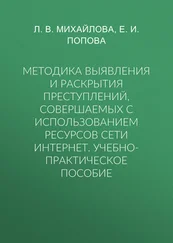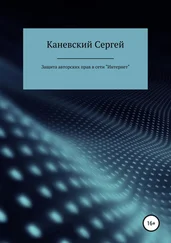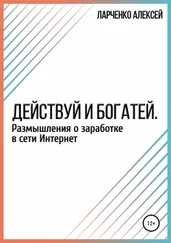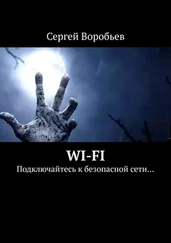S = ∪ s i,
и в дальнейшем готовить материал, ориентированный на конкретные подмножества субъектов. Тогда общая постановка задачи планирования будет выглядеть следующим образом.
Пусть d ц— целевое действие, которое должны совершить субъекты S.
Для того чтобы оно было совершено, необходимо провести разбиение субъектов S по интересам и политическим предпочтениям, а затем подготовить соответствующий этому действию материал, ориентированный на конкретные группы субъектов:
m di= F m(S i,d ц).
г і= F r(S i).
Max ΣΨ(m di,к і,г і)
При следующих ограничениях:
1. ΣZ m(m di) + Σ n iZ r(r i) + ΣΖ -r(г і) < Z o— финансовые средства, выделенные на подготовку и проведение ИО.
2. t(d ц) ∩ T(d ц) не пусто.
При такой постановке задачи планирование ИО сводится к разбиению всего множества субъектов на подмножества по «интересам» и подготовке для каждого подмножества материалов, ориентированных именно на данное множество субъектов.
ВАРИАНТ № 3. ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ
РАЗБИЕНИЯ ЦЕЛИ НА ПОДЦЕЛИ
При планировании ИО по первому и второму варианту мы исходили из того, что достижение цели осуществляется непосредственно на первом этапе ИО. Как правило, так оно и есть. Но в отдельных случаях, как, например, в случае информационной войны против СССР, достижение цели предполагало ряд этапов, т. е. чтобы достичь цели, надо было совершить целую последовательность дополняющих друг друга действий. Перепрограммирование осуществлялось этапно. Прежде чем перейти к подготовке субъектов на совершение d цдействия, они готовились к совершению действий, близких к целевому.
В данном варианте планирование ИО осуществляется, начиная с построения цепочки множеств действий типа: d 1,d 2,d 3,…d i,….d ц. После чего по каждому множеству действий применяется вариант планирования № 2 или № 1.
В случае применения вариантов № 2 и № 1, а особенно № 1, адекватность распространяемой информации реальным процессам уже не играет никакой роли, важно только массированное информационное давление, важна только величина n iв формуле Ψ(Μ di,κ i,r i), которая во многом определяется возможностями агрессора — Z o.
Довольно часто для подтверждения своих текстов используются специально созданные фальшивки (m i), особенно когда необходимо показать агрессивность и «бесчеловечность» той или иной страны и ее лидеров. Чтобы выйти на «дружное» осуждение исторического деятеля и факта, специально переписывается история. Реанимация из ничего якобы существовавшего действия d n, в конце-то концов, приводит к возможности реализации действия d ц. Как гласит основной закон информационной войны: «Доказанная взаимосвязь несуществующих событий становится законом, определяющим поведение реальных субъектов» [49] Расторгуев С.П. Информационная война. Проблемы и модели. М.: Гелиос АРВ. 2006.
.
«Вот, скажем, такой пикантный моментик. По официальной версии Договор о ненападении между Германией и СССР и «секретный протокол» к этому договору были подписаны одновременно в Москве в рабочем кабинете Сталина в ночь с 23 на 24 августа 1939 г. Но почему-то они отпечатаны на разных пишущих машинках. Выходит, у Сталина была специальная пишущая машинка, на которой печатали только секретные сделки с Гитлером? Да, прямым доказательством подлога это не является, потому что гипотетически пишущая машинка после того, как на ней отпечатали текст договора, могла сломаться и «секретный протокол» к договору печатали на другой. Договор с «протоколом» отпечатаны на двух языках — русском и немецком. Для печати «секретного протокола» из советского комплекта использована тоже другая машинка с немецким шрифтом. Какова вероятность, что обе машинки — с русским шрифтом и немецким — сломаются одновременно?» [50] Кунгуров А. Как обделавшийся профисторик Исаев подтерся пактом Моло това — Риббентропа // http://kungurov.livejoumal.com .
и т. д. еще десятки несоответствий.
Подробнее можно почитать в работе А. Кунгурова «Секретные протоколы, или Кто подделал пакт Молотова — Риббентропа» [51] Книга посвящена исследованию проекта американских спецслужб по внедрению в массовое сознание мифа о существовании неких секретных протоколов, якобы подписанных Молотовым и Риббентропом 23 августа 1939 г. одновременно с заключением советско-германского Договора о ненападении. На основе стенограмм Нюрнбергского процесса автор исследует вопрос о первоисточниках мифа о секретных протоколах Молотова — Риббентропа, проводит текстологический и документоведческий анализ канонической версии протоколов и их вариантов, имеющих хождение, рассказывает о том, кто и зачем начал внедрять миф о секретных протоколах в СССР. А также кем и с какой целью было выбито унизительное для страны признание в сговоре с Гитлером. См.: www.etextlib.ru/Book/Details/42285 .
.
Читать дальше