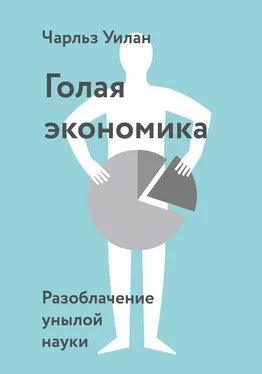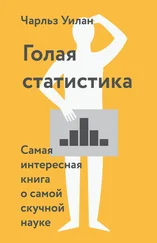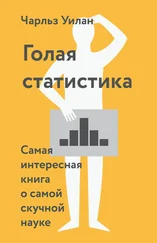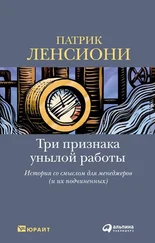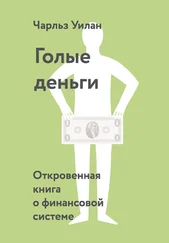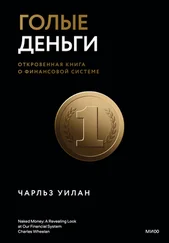Торговля обеспечивает бедным странам доступ к рынкам развитых стран; на этих рынках сосредоточено большинство потребителей мира – или, по крайней мере, самые богатые и готовые щедро тратить деньги. Рассмотрим, например, эффект, произведенный законом «Об экономическом росте и торговых возможностях для стран Африки», который был принят в 2000 году и позволял бедным африканским странам экспортировать в США текстиль с очень низкими таможенными пошлинами, а то и вовсе беспошлинно. Только за один год экспорт текстиля из Мадагаскара в США вырос на 120 процентов, из Малави на 1000 процентов, из Нигерии на 1000 процентов, из ЮАР на 47 процентов. Как точно отметил один комментатор, это решение создало «реальные рабочие места для реальных людей» [212].
Торговля помогает бедным странам богатеть. Как известно, в экспортных отраслях экономики заработки зачастую выше, чем в других. Но и это лишь начало. Новые рабочие места в экспортных отраслях порождают более серьезную конкуренцию за рабочую силу, что со временем приводит к росту заработной платы во всех секторах экономики. Доходы могут расти даже в сельской местности; по мере того как работники уходят из деревень в поисках лучших возможностей, количество ртов, которые надо прокормить тем, что можно вырастить на полях, сокращается. Но и этим дело не ограничивается. Иностранные компании приносят в страну капиталы, технологии и новые навыки, благодаря чему повышается продуктивность рабочих, занятых в экспортных отраслях. Кроме того, все это распространяется и на другие сектора экономики, ведь работники «учатся по ходу дела» и потом забирают приобретенные знания с собой.
В своей замечательной книге The Elusive Quest for Growth («В поисках роста») Уильям Истерли рассказывает историю зарождения в Бангладеш швейной промышленности, которая возникла там почти случайно. В 1970-х годах основным производителем текстиля считалась южнокорейская Daewoo Corporation. Когда США и Европа ввели квоты на импорт южнокорейского текстиля, Daewoo, вечно нацеленная на максимизацию прибыли, обошла торговые ограничения, передислоцировав некоторые предприятия в Бангладеш. В 1979 году корпорация подписала соглашение о сотрудничестве в пошиве рубашек с бангладешской компанией Desh Garments. И самое главное – Daewoo отправила 130 бангладешских работников в Южную Корею для профессиональной подготовки. Иными словами, корпорация щедро инвестировала средства в человеческий капитал своей бангладешской рабочей силы. А человеческий капитал как раз характеризуется тем, что, в отличие от оборудования или финансовых активов, его невозможно отобрать. Стоило бангладешским работникам научиться шить рубашки, и уже никто не может их заставить забыть, как это делается. И они не забыли.
Впоследствии Daewoo разорвала отношения с партнером в Бангладеш, но семена для бурно развивающейся экспортной отрасли уже дали всходы. Из 130 работников, обученных Daewoo, 115 в течение 1980-х годов ушли с предприятия и основали собственные фирмы по экспорту одежды. Уильям Истерли в своей книге весьма убедительно показывает, что инвестиции Daewoo заложили чрезвычайно важный фундамент для того, что со временем переросло в экспортную швейную промышленность стоимостью в три миллиарда долларов. А чтобы никто из читателей не подумал, что препятствия международной торговле чинятся исключительно для оказания помощи беднейшим из бедных или что республиканцы менее склонны к лоббированию интересов определенных групп, нежели демократы, отмечу, что в 1980-х годах администрация президента Рейгана ввела квоты на импорт бангладешского текстиля. Признаться, мне было бы довольно трудно дать экономическое обоснование ограничения экспортных возможностей для страны с ВВП на душу населения в 1500 долларов.
Самый известный пример такого рода – это дешевый экспорт, способствовавший процветанию «азиатских тигров»: Сингапура, Южной Кореи, Гонконга и Тайваня (а еще раньше Японии). Можно вспомнить и Индию. На протяжении четырех десятилетий эта страна после обретения ею в 1947 году независимости от Великобритании оставалась изолированной; весь этот период она считалась одним из величайших отстающих в мировой экономике. (Увы, Ганди, как и Линкольн, был великим лидером, но плохим экономистом; он даже предложил поместить на индийский государственный флаг прялку – как символ экономической самодостаточности.) В 1990-е годы Индия изменила этот курс, дерегулировав внутреннюю экономику и открыв двери остальному миру, в результате чего мы все стали свидетелями продолжающейся и поныне потрясающей истории экономического успеха. Китай тоже использовал экспорт как стартовую площадку для роста и развития. Если рассматривать тридцать китайских провинций как отдельные страны, то в период с 1978 по 1995 год топ-рейтинг двадцати стран с самыми высокими темпами экономического роста состоял бы исключительно из этих территорий. Чтобы представить подобные экономические успехи в перспективе, скажу, что Великобритании после промышленной революции на удвоение ВВП в расчете на душу населения понадобилось 58 лет. В Китае этот показатель удваивается каждые десять лет. И для Индии, и для Китая это означает, что сотни миллионов их граждан постепенно переходили из категории бедных в средний класс. Николас Кристоф и Шерил Вуданн, более десятилетия писавшие для New York Times об Азии, недавно отметили:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу