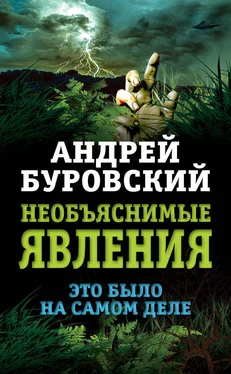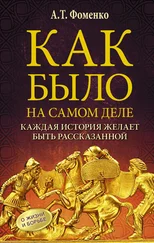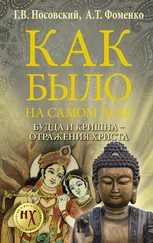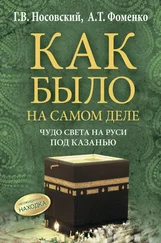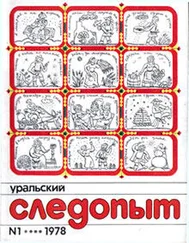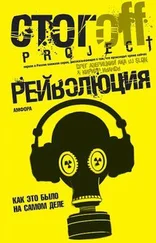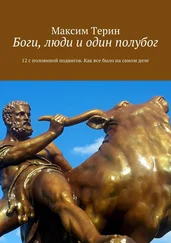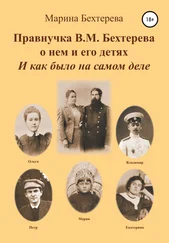Большая часть всех историй этого плана именно такова: отдельное наблюдение, фрагмент без начала, без конца и без сюжета. Эту историю я выбрал из многих только потому, что могу проверить ее во всех деталях. А в принципе она очень типична.
27 мертвых биофизиков
Любопытные персонажи водятся на биостанции красноярского университета, где проходят практику студенты после первого курса. Биостанция, надо сказать, расположена на месте, где проводились эксперименты по запуску боевых ракет. До сих пор посреди биостанции находится огромных размеров бетонная плита, то ли закрывающая вход в шахту, то ли отмечающая место, где когда-то была шахта.
Существует легенда, что в этом месте погибли 27 биофизиков то ли от излучения, то ли хлебнув по ошибке страшно ядовитого ракетного топлива. В самом мрачном варианте легенды они были еще живы, когда клали эту плиту, и колотились, пытались ее сдвинуть. Но то ли крайком КПСС, то ли кто-то еще приказал плиту оставлять, где стоит, и биофизиков не спасать.
По одной версии, в каждое полнолуние, по другой – только на Ивана Купала можно видеть скорбную процессию: 27 мертвых биофизиков выходят через бетонную плиту и уходят через лес.
Я лично знаком с несколькими людьми, которые видели эту процессию биофизиков. Биофизики, одетые в черные бушлаты, идут с мрачными лицами, опустив глаза. Они никого не замечают, ни на что не реагируют и, к счастью, никого не трогают. Но подходить к ним не рекомендуют… следует ли бояться мистических сил или радиации – этого я точно не могу сказать.
Такие книги следует сжигать, не раскрывая… То, что в ней таится, не наше, не человеческое, но от этого оно не стало менее опасным…
А. А. Бушков
Смотри, как злобно смотрит камень,
В нем щели странно глубоки.
Николай Гумилев
Сибирь все же особая область России. Это место столкновения русского человека с другим культурно-историческим миром: с миром коренных сибирских народов. Или, вернее, со многими такими мирами, ведь даже совсем маленький народ – это тем не менее целый самостоятельный этнос со своей культурой, своей историей и образом жизни. Это касается не только такого большого и цивилизованного народа, как хакасы, но и маленького, жившего в историческом прошлом кочевым оленеводством и охотой, как нганасане.
Русские и Енисей-то увидели в конце XVI века, да и то у самого устья, рассекающего равнинную тундру. Только в начале XVII века они освоили долину Енисея к северу от Ангары. До середины XVII века никто из русских не только не знал, по каким правилам течет жизнь в коренных хакасских землях в Минусинской котловине, но и не имел представления, как они вообще выглядят. Даже при основании Красного Яра казаки шли только по реке и не делали ни шагу в сторону. Что происходит, скажем, в ста километрах к востоку или к западу, им еще предстояло узнать.
Тысячи лет здесь протекала своя особенная жизнь, предельно далекая от всего, что знал и видел русский человек… и вообще всякий европеец. Своя история, уходящая в глубь веков, не имеющая ничего общего ни с Россией, ни с Европой.
В V–XII веках на весь юг Приенисейского края, южнее Ангары, распространился Кыргызский каганат – крупное, с населением до 500 тысяч человек, государство, с городами, международной торговлей, заметным влиянием на всю Центральную Азию.
Кыргызы, говорившие на тюркском языке, захватили очень разнообразную в разных частях страну, населенную народами, говорящими на разных языках. Часть людей, говоривших на самодийских и на кетских языках, стала переселяться на север, двигаясь по долине Енисея.
Каганат пал под кривыми саблями монголов после восстания 1293 года. Русские на Енисее застали множество родов и племен, говоривших на тюркских, кетских, самодийских языках. Все они вели сложное, комплексное хозяйство, в котором сочеталось земледелие, скотоводство, рыбная ловля и охота. Все они платили дань кыргызам – скотоводам-кочевникам, потомкам завоевателей.
Никакого особого восторга по поводу появления русских местные народы не испытали, но и особой неприязни – тоже. И места, и ресурсов пока что хватало для всех, русские же были интересны, да и полезны – носители множества всяческих новшеств.
Вот кыргызы были, мягко говоря, недовольны: с приходом русских кончалась их власть над данниками. Воевать с русскими они, можно считать, что не могли: слишком различной была вся материально-техническая база этих обществ. Казак на лошади, которую кормил зерном, в железном панцире, с ружьем за плечами и мешком пельменей, притороченном к седлу, делал переходы, которые и не снились кыргызам, причем в любое время года. В бою сотня казаков не боялась нескольких тысяч кыргызов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу