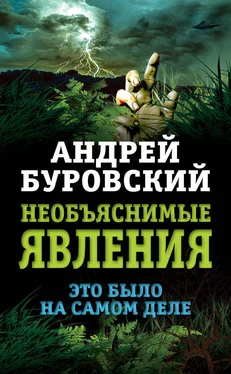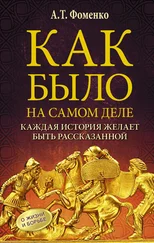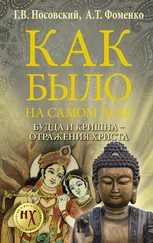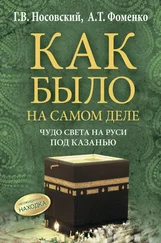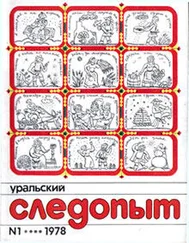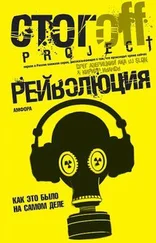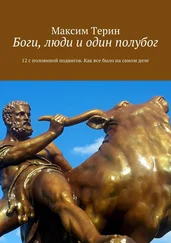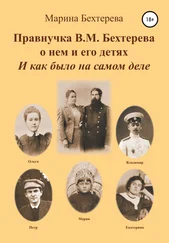Впрочем, число вариантов невероятно разнообразно, всего просто-напросто не перечислишь.
Курганная оградка – это, по сути, прямоугольный каменный забор, отгораживающий священное место. Внутри оградки потом делались овальные или прямоугольные ямы – погребальные камеры для покойников.
Если курган маленький, деревенский и похоронено в нем всего два-три человека, то и камни оградки маленькие, килограммов на сорок. Только угловые камни ставились побольше, весом в центнер-два.
Если хоронили человека более значимого, то и оградка делалась побольше, уже не в пятнадцать-двадцать квадратных метров, а метров в сорок-шестьдесят. Чем значительнее человек – тем выше курганная насыпь, выше камни курганной оградки и огражденная ими площадь.
В Большом Салбыкском кургане ограждена площадь с хорошее футбольное поле, а камни оградки – это колоссальные отесанные глыбы весом порядка 10–30 тонн.
В оградку делался вход, причем камни ворот – всегда самые большие, даже больше боковых. Камни входа в Салбыкском кургане имеют высоту 8 метров и весят порядка 30–50 тонн.
Наверное, войти в курганную оградку можно было далеко не везде, ведь оградка отделяла мир живых от мира покойников! Или, по крайней мере, она отделяла место, в котором можно попасть в мир покойников.
Вряд ли мы когда-нибудь узнаем до конца, какие ритуалы совершались в этой курганной оградке… а некоторые реконструкции, прямо скажем, не очень «аппетитны». В позднее тагарское время, например, делали одну очень большую погребальную камеру человек для тридцати, для сорока. Такое количество людей, конечно же, сразу не помирало, камеру наполняли постепенно. Клали покойника или двух, с погребальным инвентарем, с сопроводительной пищей, все как полагается. Когда умирал еще кто-нибудь, «старого» покойника и весь инвентарь сгребали к стене большущей, метра 3. «Нового» покойника клали в центр, на его место.
В результате, когда раскапывают курган, в нем всегда бывает одно обычное, нормальное погребение, а вдоль стен погребальной камеры идет сплошной вал: человеческие кости, бронзовые изделия, кости животных, куски разломанных сосудов с сопроводительной пищей.
Видно, что покойников «сгребали» к стенке на разных стадиях разложения трупа. Попадаются совсем полные скелеты: значит, этого оттащили еще совсем целым, он разложился уже под стенкой.
Вот видно, что лежала отдельно рука или нога или, скажем, кости ног вместе с костями таза: значит, труп уже разваливался на куски, его и оттаскивали по кускам. Встречается и просто месиво, в котором разобрать ничего не удается: отдельно лежат кости ног, рук, пальцев, таза, позвоночника… Значит, в поселке долго никто не умирал, труп успел превратиться в скелет или почти в скелет, его под стенку почти что сметали, освобождая место для следующего.
Разобраться в таком месиве непросто. Археологи своеобразно считают, сколько покойников было погребено в кургане. Они достают из глубокой ямы кости и раскладывают на земле косточки каждого типа рядами: берцовые левой ноги – один ряд; берцовые правой ноги – другой ряд. Лучевые кости левой руки – еще рядок. Кости позвоночника… Ключицы… Лопатки… Кости пальцев рук и ног…
Десятки квадратных метров оказываются плотно выложенными человеческими костями; это производит порой очень сильное впечатление на нервных девушек.
Петербургский археолог Эльга Борисовна Вадецкая считает, что в таштыкское время в погребальной камере устанавливались своего рода высокие «нары» и покойников сажали на них. Погребальную камеру не закапывали, совершая какие-то не очень понятные нам и, скорее всего, очень продолжительные ритуалы с «новыми» покойниками, когда «старые» уже перегнивали и падали со своих жердочек.
Таких же «предобеденных» историй о погребальных обычаях можно рассказать довольно много.
Чужая земля – это и чужие покойники, чужая память земли, и, если с этими покойниками происходят какие-то странности, это ведь тоже чужое, нерусское, попросту малопонятное.
Очень интересно проследить, как русский человек воспринимает проявления этого чужого и не во всем понятного ему мира.
Очень рано, еще в конце ХVII века, среди русских появились так называемые «бугровщики». Говоря попросту, русские грабители древних местных могил. Говорят, с «бугровщиками» доверительно советовались даже профессиональные археологи, в 1920-е гг. создававшие периодизацию местных культур.
Но в целом «бугрование» не было ни особенно распространенным, ни тем более престижным занятием в русской сибирской деревне. Отношение к «бугровщикам» установилось скорее презрительное и насмешливое. Известны случаи, когда девушки отказывали даже очень неплохо обеспеченным «бугровщикам».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу