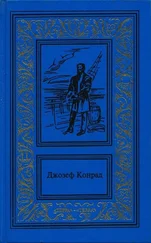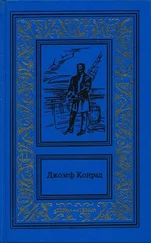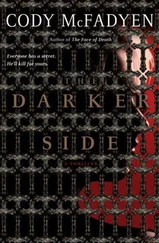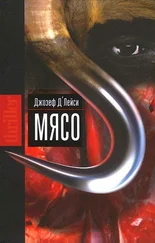— Тебе надо было всего лишь сказать «да»! — воскликнула старуха.
— А я, — сказал старик, — я захотел сказать «нет», потому что моя мать, моя бабка и все мужчины и женщины нашей семьи не могли принять эту язычницу на небесах!
— На небесах, — передразнила старуха, — на небесах!
А дочь добавила язвительным тоном:
— Сколько себя помню, от отца мы получали только тумаки.
— Потому что вы их заслуживали, — ответил старик. — Меня это огорчало не меньше вашего!
— Огорчало, ха-ха-ха! Огорчало!
В эту секунду чья-то рука коснулась моего плеча; я вздрогнул — это был Блиц; лунный луч, отразившись от оконного стекла, залил его светом, и его бледное лицо и протянутая рука проступили в сумерках. Я проследил взглядом за его пальцем, указывающим на что-то, и увидел самое ужасное зрелище из тех, что могу припомнить.
Неподвижная синяя тень отчетливо виднелась за окном на фоне белого полотна реки; эта тень имела очертания человеческой фигуры и казалась подвешенной между небом и землей; голова ее падала на грудь, локти торчали под прямым углом к позвоночнику, а совершенно прямые ноги вытянулись носками вниз.
И пока я смотрел, округлив и скосив от ужаса глаза, каждая деталь проявлялась в этом мертвенно-бледном лице; я узнал Саферия Мютца, и над его сгорбленными плечами увидел веревку, крюк и столб виселицы, а затем, у подножия этого мрачного устройства, — белую фигуру, коленопреклоненную, с распущенными волосами: Гредель Дик с руками, сложенными для молитвы.
Кажется, в тот же миг все остальные, как и я, увидели это странное явление, потому что я услышал, как старик простонал:
— Господи Боже… Господи Боже, помилуй нас!
А старуха пробормотала тихим, задыхающимся голосом:
— Саферий мертв!
Она зарыдала, а дочь закричала:
— Саферий! Саферий!
Но вдруг все исчезло, и Теодор Блиц, взяв меня за руку, сказал:
— Уходим.
Мы вышли. Ночь была прекрасна; листья колыхались с тихим шепотом.
И пока мы бежали, зачарованные, по длинной Платановой аллее, далекий голос меланхолично пел на реке старинную немецкую балладу:
Тиха и глубока могила,
Разверсты страшные края…
Смерть темным саваном укрыла,
Смерть темным саваном укрыла
Погост, где спит любовь моя.
— Ах, — воскликнул Теодор Блиц, — если бы Гредель Дик не было там, мы бы увидели другое… как великая тьма… вынимает Саферия из петли… Но она молилась за него, бедная душа… Она молилась за него… Белое остается белым!
И далекий голос, затихая, вновь запел под шепот волн:
Трель соловья осушит слезы.
Живи — о смерти позабудь.
И лишь кладбищенские розы,
Скорбят кладбищенские розы
О тех, кого уж не вернуть.
Теперь ужасная сцена, только что произошедшая на моих глазах, и тот далекий меланхоличный голос, что все удалялся и удалялся, пока не затих в пространстве, остались во мне как смутный образ бесконечности, той бесконечности, что поглощает нас безжалостно и растворяет безвозвратно! Одни смеются над этим, как инженер Ротан; другие дрожат при этой мысли, как бургомистр; кто-то жалобно стонет, а кто-то, как Теодор Блиц, склоняется над бездной, чтобы увидеть происходящее в ее глубине. Но это суть одно и то же, и знаменитая надпись на храме Исиды [319] Надпись на храме богини Исиды в Саиде (Египет) гласит: «Я из тех, кто был, есть и будет. И не один смертный никогда не приподнимет завесу, скрывающую мою Божественность от глаз людских».
всегда права: я тот, кто я есть — и никто никогда не проникал в тайну, что меня окружает, никто в нее никогда не проникнет.
Перевод Наталии Николаевой
Двенадцатилетняя Ванда, обрадованная тем, что получила хорошую отметку по труднейшему предмету, вернувшись из гимназии, так разошлась, что, случайно махнула рукой и зацепила чашку Владимира Ивановича, мужа учительницы, у которой жила на квартире. Фарфор, конечно, разбился, и за этот проступок девочка понесла весьма тяжкое наказание…
DARKER вновь обращается к классике русской литературы — на этот раз к произведению Федора Сологуба из сборника «Тени», впервые опубликованного в 1896 году.
DARKER. № 11 ноябрь 2015
I
Ванда, смуглая и рослая девочка лет двенадцати, вернулась из гимназии румяная с мороза и веселая. Шумно бегала она по комнатам, задевая и толкая подруг. Они опасливо унимали ее, но и сами заражались ее веселостью и бегали за нею. Они, однако, робко останавливались, когда мимо них проходила Анна Григорьевна Рубоносова, учительница, у которой девочки жили на квартире. Анна Григорьевна сердито ворчала, хлопотливо перебегая из кухни в столовую и обратно. Она была недовольна и тем, что обед еще не готов, а Владимир Иванович, муж Анны Григорьевны, должен сейчас вернуться из должности, и тем, что Ванда шалила.
Читать дальше