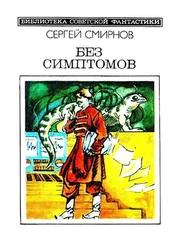Короче, спустя три дня мы уже сидели в самолёте прощаясь с СССР раз и навсегда. Я хотел и плакать и смеяться, и ужраться водярой до потери пульса, я не имел ни малейшего понятия, что там меня ждет кроме вкусных пирожков с ливером от шантажистки в голливудском платье.
Но всё вышло зашибись! Я, можно сказать, снова ожил. Первые полгода я тупо отдыхал, жрал по ресторанам, знакомился с эмигрантами, ходил в гости, посещал музеи, валялся на пляжах и потихоньку примазывался к местной элите. Бабуля оплатила мне пребывание в реабилитационном центре, боль поутихла и моя спина снова стала как новая. Английский я подтянул очень быстро и уже через пять месяцев свободно им владел. Новая жизнь мне всё больше и больше начинала нравится. Бабуля помогла мне устроится на работу учителем физкультуры в школу Нью-Джерси и я был ей признателен за такую, практически, материнскую заботу. В школе я и встретил свою будущую жену, учительницу начальных классов Морин. Она мне любит говорить, что я ей совершенно не понравился с первого взгляда, но я знаю, что шельма врёт. Она втрескалась в меня сразу же по уши, как и я в неё. Через три месяца мы поженились, а еще через восемь она родила Романа с весом три семьсот. Лёля-рогипнол стала моим лучшим другом и мы часто зависали вместе. А потом Бабуля начала нам давать задания, собственно, никто в этом и не сомневался, это был только вопрос времени и оно настало. То была картина руки Рембрандта, из частной коллекции на Кони-Айленд, гаденький такой портретик, скажу я вам, но дорогущий зараза, хотя мне такой и даром не нужен был. Сработали мы с Лёлей красиво, никто не пострадал, она стояла на шухере пока я всё там оформлял и сильно нервничала. Бабы, они практически всегда нервничают. Потом был Ван-Гог, запонки с голубыми брюлликами Уинстона Черчилля, рубины Борджиа, колье Марии-Антуанетты и всё таком-же эстетском избирательном духе. И всё у меня шло гладко до этого дня, до дня пока Бабуле не понадобились перчатки Елены Чаушеску. Я рассматривал фото и не мог понять, что в тех сраных перчатках такого особенного и на кой сдались они Бабуле? Телесного цвета, с виду совершенно обычные и ничем не примечательные. Носить это старье и получать удовольствие от того, что они когда-то были на руках жёнушки румынского диктатора, которого расстреляли как бешенную собаку вместе с ней, лично для меня удовольствие сомнительное. Но не моё это дело, мне платят за работу, которую я обязан делать. Я люблю баблишко, все в этом мире любят баблишко, без него никак. Дом, точнее сказать, халабуда, Мэры Марковны располагалась с унылом сыром переулке, вид был, не приведи господи, там пахло плесенью, кошками, гнилой картошкой, а в грудах пищевых отходов и старого барахла можно было свернуть ногу. Эту двухэтажную уродливую старющую постройку стоило снести ещё в начале восьмидесятых, возможно, даже вместе в Мэрой Марковной, разгрести эту еврейскую свалку и построить нечто более приличное, район, как ни крути, не самый плохой в Нью-Йорке. Я надел медицинские перчатки, натянул маску, и накрутил глушитель на пистолет. У меня при себе был и хлороформ и шприц с транквилизатором, но я вспомнил про свой несправедливый диагноз, к тому же этот засранный переулок перед глазами, похожий на хлев, благодаря усилиям обитательницы убогого жилища, меня тупо взбесили. Я человек, который ни разу не выбросил мимо мусорника даже обёртку от конфеты и не принёс, по сути дела, никакого вреда окружающей среде. И вот теперь должен подыхать от рака лёгких, а какая-то баба Мэра, загадившая всё вокруг, продолжать свинячить дальше, имея всех в виду! Не-не, так дело не пойдёт. Пулю ей в лоб. Так я и сделал.
Перчатки нашлись на дне дубового комода. Мягкие как кожа младенца, удивительно тёплые, источающие тонкий сладковато-мускусный запах. В тот миг я подумал, именно так и пахнет сладкая жизнь. Они словно манили меня и я их натянул. С виду казались такими маленькими, деликатными, абсолютно дамскими, но пришлись в самую пору, сели как родные. А снять назад я их не смог. Они стали моими руками или я сам стал перчатками. От испуга, я чуть не обоссался, заскулив попавшим в капкан волком и начал остервенело скрести свои ладони. Подбежал к грязному зеркалу; в этой собачьей будке оно не имело привилегии на чистоту. Таращясь крысиными, покрасневшими от лопнувших сосудов глазами, на меня смотрела пожилая женщина с крупным некрасивым носом. Её бецветная кожа напоминала ворох старых полуистлевших газет. Горчичного цвета пальто с меховым коричневым воротником, висело на её щуплом теле лохмотьями огородного чучела, моя покойная матушка таким отпугивала вороньё. Затем она вцепилась острыми когтями в свои (?) -мои (!) волосы и начала извергать всевозможные проклятия на румынском языке. И даже раскаты грома, обрушившиеся на Брайтон-Бич, не смогли заглушить этой отборной брани.
Читать дальше