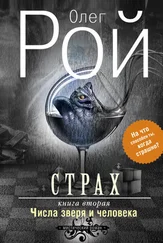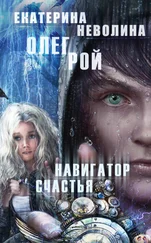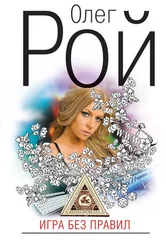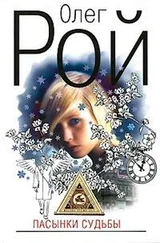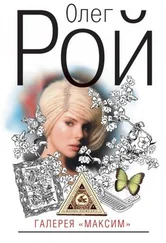— Да какая разница, — засмеялся Иванов. — Если нужно поднять меч против тьмы, мы это сделаем. Если нужно утешить плачущего малыша, мы прилетим и поцелуем его… Ты не представляешь, какая это радость — быть со всеми вами единым целым. Быть любовью. Быть светом…
Потрескивали в камине дрова, оранжевые отсветы теплились на стене.
Рядом с камином, в кресле на резных львиных лапах, сидел разноглазый — правый глаз черный, левый почему-то зеленый — человек с чеканным профилем и неспешно потягивал из серебряного кубка красное вино.
— А теперь торопиться нам некуда, — щурясь в огонь, вполголоса обратился он к рыжему коренастому мужчине с торчащим клыком. — И сегодня снова я вспомнил папу римского Климента Шестого. Клянусь тьмой, изрядный был политик, он знал, что методы не меняются даже по прошествии веков… Помнишь, Азазелло, что говорил он своему названному племяннику?
— Вот этому, мессир? — равнодушно кивнул демон пустыни в сторону белеющего на томике «Мастера и Маргариты» черепа. — Бизанкуру? Конечно, помню, владыка.
И процитировал:
«Ты понимаешь теперь, мой мальчик, как именно можно заработать капитал на болезни и страхе, если ты приближен к власти?»
«Да, ваше святейшество. Вовремя рассказать нужную сказку. Попросту всех обмануть».
«Не стесняйся придумывать любую ерунду. Народ у нас доверчивый, он проглотит еще и не такое».
— Еще и не такое… — задумчиво повторил Дух зла. — Что четырнадцатый век, что двадцать первый — ничего, по сути, не меняется. Воистину так. На этот раз посмотрим, к чему приведет и вовсе не прикрытое глумление — смогут ли люди, не моргнув, это проглотить.
— Смогут, мессир, — тем же равнодушным тоном подтвердил Азазелло. — Готов поставить свой клык. Люди, особенно те, от которых, как они думают, ничего не зависит, стали нынче донельзя ленивы и косны. Они разобщены и безучастны почти ко всему, кроме своего маленького мирка. Мы придумаем им страшилку на весь мир, разведем по домам, запрем их всех по своим клеткам, и они разойдутся безропотно, как овцы. Они будут делать все, что мы им прикажем. Вставят в нос колокольчики или наденут светящиеся ошейники. Дурацкие остроконечные шапочки или намордники. Мы запретим им здороваться за руку, и они начнут покорно стукаться при встрече подошвами, локтями или коленками. Опустеют школы, университеты, театры и прочие места, где они прежде любили собираться. Будут тихо сидеть за закрытыми ставнями и тихонько блеять от ужаса. А потом мы прикажем им прийти к нам по одному, чтобы мы могли поставить на каждого нашу печать, и они придут. Мы прикажем им принести нам своих детей, и они принесут.
— Ты уверен, Азазелло? — уголком рта усмехнулся Князь Тьмы.
— Абсолютно, мессир. Да разве вы не этого хотели?
— Какую, однако, апокалипсическую картину нарисовал ты, — покачал он головой.
— Это и есть тихий Апокалипсис, — пожал плечами демон пустыни. — Мы в выигрыше. Если же они возьмутся бунтовать, мы будем вычислять их по одному или группами и показательно наказывать. Тут и там будут подниматься волны протеста, начнутся акты самосожжений — и вновь мы в выигрыше.
— Ты создал образ абсолютного сумасшедшего дома, — заметил Воланд. — Что-то не верится мне такой исход.
— А я больше не верю в людей, — возразил рыжий демон. — Есть, конечно, отдельная группа лиц, которых можно еще назвать людьми, но они в меньшинстве.
Он зевнул, и отблеск огня прокатился искрой по его клыку:
— Похоже, эту битву мы выиграли, мессир…
Они помолчали.
— «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь», — пробормотал вдруг Воланд.
— Что, простите, мессир? — переспросил пустынный демон.
— «Но любовь из них больше», — возвысил голос Князь Тьмы. — «Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». И он расхохотался и хохотал все пуще, пока демон-убийца недоуменно смотрел на него.
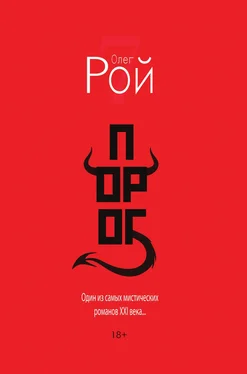
![Олег Рой - Неудавшийся поход [с цветными иллюстрациями]](/books/33886/oleg-roj-neudavshijsya-pohod-s-cvetnymi-illyustraciya-thumb.webp)