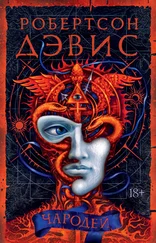Но когда мы вышли на улицу, его нигде не было видно. Мы поискали его, но мне пришлось возвращаться домой одному.
Подозрителен ли я по натуре? Воистину так. Это следствие моей развитой интуиции. Вернувшись домой, я сразу заглянул в ящик стола, где лежал еще один чек от Брокки, на полторы тысячи долларов. Я рассказал Брокки, что Чарли обиделся на чек, выписанный на мое имя, и новый чек Брокки выписал на самого Чарли. Я собирался попросить его сделать на чеке передаточную надпись, после чего я бы получил деньги и хранил у себя, выдавая Чарли понемногу. Итак, он оказался на свободе с полутора тысячами долларов. Я знал, что должно случиться.
И это случилось. Через два дня я позвонил в полицию и попросил поглядывать на предмет появления Чарли и вернуть его ко мне, когда он объявится. Прошло десять дней, и его привезли – в карете «скорой помощи», расхристанного, небритого и все еще в тисках колоссального запоя.
Чарли был завязавшим алкоголиком. Скромная доза, предписанная мной, держала его в стабильном состоянии, поддающемся лечению, но званый ужин и приятное женское общество оказались ему не по силам, и он сорвался – с большими деньгами и обострившейся тягой к спиртному, чтобы утолить всепоглощающую жажду. Полицейские доложили, что во хмелю он не буянил; не предлагал проставить выпивку всем посетителям баров, где оказывался; напротив, он обращался с деньгами рачительно, приберегая их для собственной услады. Он не лез в драку и не рыдал, а потому не привлекал особого внимания. Он неплохо держался на ногах, и бармены не догадывались, насколько он пьян. Он даже купил флакон витаминов и принимал их, уверенный, что они компенсируют отсутствие еды, на которую ему не хотелось тратиться. Хитроумный пьяница, он праздновал выход на свободу исключительно сам с собой, пока наконец не напугал бармена и посетителей, упав (с виду – вроде бы замертво) в очередном заведении. Но он не умер, хотя, осмотрев его, я понял, что ему осталось недолго.
За эти десять дней свободы он нанес массивный алкогольный удар по всему организму, у которого не было сил сопротивляться. И я сел ждать его смерти.
АНАТ. От чего умирают литературные персонажи? Как врач, я всегда этим интересуюсь, но литературные болезни так плохо описаны, что я впадаю в отчаяние. У Шекспира, например: чем на самом деле хворал старый Джон Гонт, которому было всего пятьдесят девять лет и который взялся пророчествовать на смертном одре? Это не могло быть заболевание дыхательной системы, иначе он бы не смог произнести такую длинную речь перед смертью. Фальстаф, совершенно очевидно, пал жертвой пьянства, и я ставлю на цирроз печени; скорее всего, он страдал желтухой и опуханием конечностей, характерными для этой болезни, ну а огромный выпуклый живот был у него и раньше. Типичный для этой болезни упадок умственных способностей объясняет его бредовые речи, обрывочные молитвы и бессмысленную болтовню, о которой рассказывает миссис Квикли. Но хотелось бы больше подробностей. Однако Шекспир писал не только для врачей. Хотя, несомненно, был знаком с этой породой, поскольку его любимая дочь Сюзанна, по слухам унаследовавшая красноречие отца, вышла замуж именно за врача, причем известного, некоего Джона Холла. Но Холл был пуританином; не он ли пустил слух, что Шекспир умер от пьянства? Я бы с расстояния нескольких веков предположил, что смерть наступила от переутомления.
С ходу мне припоминается единственный персонаж у Шекспира, страдавший чем-то определенным: это Пандар в «Троиле и Крессиде», который жалуется на «подлый сучий кашель», вероятно астму, что также может объяснять слезящиеся, гноящиеся глаза: в общем, заболевание респираторной системы. А вот ломота в костях, которую он так красочно описывает, – почти наверняка сифилис, с которым он должен был часто сталкиваться в силу своей профессии.
Гамлет дает нам клинический портрет Полония, когда говорит, что у стариков «с ресниц течет амбра и вишневый клей». Это похоже на запущенный конъюнктивит – при королевском дворе не было доступа к антибиотикам. Но Шекспир – это все же не совсем беллетристика.
Именно в беллетристике мы встречаем угасающих женщин – например, Дору в «Давиде Копперфильде». От литературных матерей вроде миссис Домби авторы часто избавляются посредством смерти в родах, чтобы лишить их детей любви и заботы. Авторы часто убивают и детей, обставляя их смерть чрезвычайно жалостно, как и подобает смерти ребенка. Но чем именно болела маленькая Ева Сент-Клэр в «Хижине дяди Тома»? Отчего убралась на тот свет малютка Нелл – скорее юная женщина, чем дитя, достаточно зрелая, чтобы привлечь взоры злобного мистера Квилпа? Нимфетка Нелл. Отчетливых симптомов нет; кажется, что девочки умерли от чрезмерного разрастания добродетели. Нельзя ли определить в общих медицинских терминах нечто называемое «болезнью героини»? Эта болезнь, по-видимому, убивает, но без сопутствующих неприятных симптомов, если не считать крайней усталости и повышенного содержания сахара в крови. Авторам нужно избавляться от добродетельных персон – чьих-нибудь жен или дочерей, – но без реалистических атрибутов смерти, поэтому авторы неумолимы, но весьма туманны. Доведись мне выписывать кому-нибудь из этих героинь свидетельство о смерти, думаю, в графе «причина» пришлось бы поставить «бледная немочь».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Робертсон Дэвис Чародей [litres] обложка книги](/books/432189/robertson-devis-charodej-litres-cover.webp)
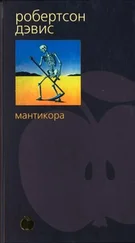
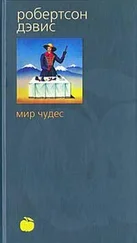

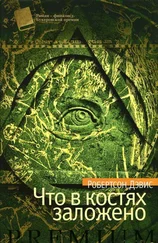
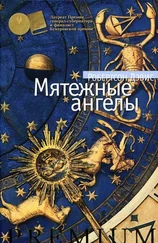

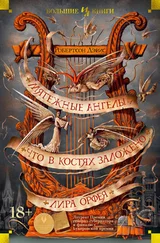

![Робертсон Дэвис - Убивство и неупокоенные духи [litres]](/books/435538/robertson-devis-ubivstvo-i-neupokoennye-duhi-litr-thumb.webp)