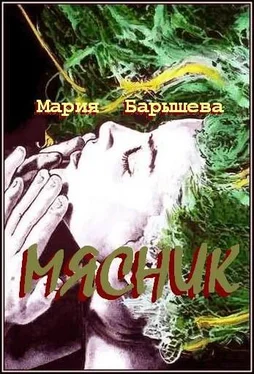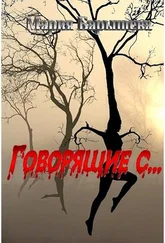— А тебе понравится, если твою жену будут трахать в интересах полной выработки? — спрашивает Женька тоном обывателя, делающего замечание на тему погоды. — И даже не в этом дело — у нас каждый работает так, как считает нужным и там, куда я направлю. Вы, Николай Сергеевич, прекрасно помните мои условия и не только вы, кстати, — он ухмыляется и возводит глаза к потолку. ЭнВэ багровеет и приподнимается со стула.
— Ты, Одинцов, не борзей, — тихо говорит он, резко позабыв про прекрасный гоголевский язык. — Ты не борзей, сука!
— Кто борзеет?! — восклицает Женька обиженно и его физиономия все так же безмятежна. — Я борзею?! Да ни в коем разе! Я и не умею! Я всегда тише крана, ниже плинтуса! Макс, быстро ответь: разве я могу борзеть?!
— Что вы, босс, — с готовностью отзывается Максим, — да вы тихи аки овечка.
— Спасибо, с козочкой не сравнил. Ну, вот, видите? Пойду, поищу свой нимб в нижнем ящичке. Видите, как вы ошиблись? Но вы этого и не говорили, верно? Вы ведь не это говорили? Наверное, вы только сказали «Э!»
— Нет, это я сказал: «э!», — перебивает его Максим. Женька пожимает плечами:
— А может и я сказал: «э!» В общем, «э!» — сказали мы с Петром Ивановичем. Что же до унтер-офицерской вдовы, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу клевета. Это выдумали злодеи мои. Завтра я сообщу вам, как и кем будут выполняться заказы. А сейчас, Николай Васильевич, черт, простите, Сергеевич — все время путаю — вы уж не обессудьте, мы как бы несколько устали, и, если не возражаете, то… — Женька делает реверанс, и ЭнВэ, только что озадаченно скашивавший глаза то на него, то на Макса, снова осторожно трогает ладонью свою волосяную нашлепку, застегивает пальто и хмуро говорит:
— Ладно уж… отдыхайте. Только… смотри, Одинцов, не по чину власть берешь! Смотри, объешься — поплохеет.
— Чем прогневили? — неожиданно дрожащим, цепляющим за душу голосом юродивого вскрикивает за спиной ЭнВэ незаметно прокравшийся туда позабытый Вовка, и ЭнВэ подпрыгивает на месте. — Разве держали мы… руку поганого татарина… разве соглашались в чем-либо с тур… с турчином, разве изменили тебе делом или помышлением?!
— Ох, лукавый народ! — ЭнВэ обреченно машет рукой, подхватывает дипломат и величественно следует к выходу. — Поглядишь, так у вас, Одинцов, не серьезная фирма, а зоопарк какой-то! Не забудьте — завтра я вас жду!
Гордо выпрямив спину, он скрывается за углом.
— Прощай, Ганна! — зычно кричит Женька, хотя до нас еще не долетел тонкий перезвон, означавший, что открыли входную дверь, и ЭнВэ, наконец-то, покинул «Пандору». — Поцелуй, душенька, своего барина! Уж не знаешь, кому шапку снимать! Эх, прощай, прежняя моя девичья жизнь, прощай! Сергеич, с поцелуем умираю!
Последние его слова тонут в оглушительном хохоте. Не смеюсь только я, потому что растерянно смотрю на только что открытое мною письмо. Я ничего не понимаю. Мои глаза прикованы к заголовку, которого не может существовать.
«Здравствуй, милый Витязь. Шлет тебе пламенный привет Наина».
Я тру лоб, потом оглядываюсь — украдкой, словно меня могут застигнуть за каким-то непристойным занятием. Но никто не обращает на меня внимания, и я снова смотрю на экран, не в силах заставить себя продвинуться дальше заголовка.
Здравствуй, милый Витязь. Шлет тебе…
И письма-то самого существовать не может, не говоря уже о заголовке, но вот он — смотрит на меня и словно посмеивается. Два имени, которые я уже начала забывать… словно старая фотография, неожиданно выскользнувшая из книги.
Витязь. Наина… Ах, витязь, то была Наина!
…нежелательно писать в открытую, да и все, кто сейчас через Интернет переписываются, придумывают себе какие-то прозвища. Что скажешь насчет пушкинской тематики? Как тебе Витязь и Наина. По-моему здорово подходят под имена — я Вита, ты Надя. Правда?
Да, правда, и знали об этом только две милые девочки — Вита Кудрявцева и Надя Щербакова. Витязь и Наина. Только вот Наина не может писать мне писем, никак не может, потому что погибла летом прошлого года далеко отсюда, в другой стране, в результате дурацкого дорожного происшествия, о котором я толком так ничего и не знаю.
Я нащупываю сумку и тяну ее к себе, краем уха слыша, как Максим говорит:
— Это было круто, босс, круто, но как мне уже надоело заниматься этим гоголевским угождением. Ну уже ж невозможно, у меня даже голова заболела!
— Радуйся, что не цитируешь Фолкнера, — замечает Женька, потом чем-то шуршит и говорит: — О, господи, спасибо за крошки с вашего стола! Артефакт, друже, поди сюда — я дам тебе самую бессмысленную вещь на свете. Или тебе уже совсем не нужны деньги?
Читать дальше