Но сегодня Гарольд был добродушнее и веселее, чем когда-либо. Он так улыбался, что я думала, его лицо лопнет! Именно он предложил свою помощь Стью, чтобы разобраться с устройством этого реактивного ружья, и…
Ну вот, они возвращаются. Допишу позже.
Франни глубоко спала, и ей ничего не снилось. Точно так же, как и всем остальным, кроме Гарольда Лаудера. Вскоре после полуночи он встал и осторожно подошел к тому месту, где лежала Франни, остановился и стал смотреть на нее. Теперь он уже не улыбался, хотя улыбка не сходила с его лица весь день. Иногда ему казалось, что от этой улыбки у него лопнет лицо, и отовсюду полезут мозги. Это стало бы облегчением.
Гарольд смотрел на нее сверху вниз, прислушиваясь к стрекоту кузнечиков. «Мы живем в собачье время», — подумал он. Собачьи дни, начиная с двадцать пятого июня и по двадцать восьмое августа, согласно Вебстеру. Названные так, потому что, как предполагалось, популяция собак более всего увеличивается в этот период. Он снова взглянул на Франни. Она сладко спала, подложив под голову свитер. Рядом с ней лежал ее рюкзак.
«У каждой собаки — свое время, Франни».
Гарольд встал на колени, замерев от хруста в коленях, но никто даже не пошевелился. Он развязал ее рюкзак и осторожно пошарил внутри. Вытащил карандаш. Франни что-то пробормотала во сне, поерзала. Гарольд затаил дыхание. Наконец он отыскал то, что искал на самом дне, под тремя чистыми блузками и карманным дорожным атласом. Записная книжка. Он вытащил ее, открыл на первой странице, осветив фонариком убористый, но очень разборчивый почерк Франни.
«6 июля 1990 г. — После недолгих уговоров мистер Бейтмен согласился отправиться с нами.
Гарольд захлопнул книжку и забрался с ней в свой спальный мешок. Он ощущал себя совсем маленьким мальчиком, которым когда-то был, мальчиком, у которого было слишком мало друзей (он наслаждался лишь кратким периодом младенчества до трех лет, и с тех пор над его полнотой всегда жестоко подшучивали), но слишком много врагов, мальчиком, более или менее лишенным родительской ласки — их глаза следили только за Эми с тех пор, как та начала свой длительный поход к титулу Мисс Америка/Атлантик-Сити, — мальчиком, нашедшим утешение в книгах, мальчиком, избегавшим избрания в бейсбольную команду или избрания в школьный патруль, становившимся то долговязым Джоном Сильвером, то Тарзаном, то Филипом Кентом… мальчиком, который становился всеми этими людьми поздно ночью под одеялом, с фонариком, освещавшим печатные листы, с широко открытыми от волнения глазами, не обращавшим внимания на запах своего тела; именно этот мальчик сейчас забрался в спальный мешок с дневником Франни и фонариком.
Когда он уже направлял луч фонарика на первую страницу дневника, у него наступил момент умственного просветления. На мгновение часть его разума выкрикнула: «Гарольд! Остановись!» — настолько громко, что он вздрогнул. И почти остановился. На какое-то мгновение показалось возможным остановиться, положить дневник на место, туда, откуда он взял его, отказаться от нее, и пусть она идет дальше своей дорогой, пока не случится нечто ужасное и непоправимое. Это было мгновение, когда он мог еще отложить горькую пилюлю, не растворять ее в чаше познания, а выплеснуть и наполнить ее тем, что было предназначено в этом мире для него. « Оставь это, Гарольд», — взывал голос благоразумия, но, кажется, было уже слишком поздно.
В возрасте шестнадцати лет он забросил Берроуза, Стивенсона и Хаббарда, предпочтя этому фантастику — фантастику, одновременно столь любимую и ненавидимую, но не о ракетах или пиратах, а о девушках в прозрачных одеждах, стоящих перед ним на коленях на атласных подушках, в то время как Гарольд Великий Повелитель, обнаженный, восседал на троне, готовый в любое время отхлестать их кожаными плетками с серебряными наконечниками. Это были самые острые фантазии, через которые в свое время прошли все хорошенькие девочки школы Оганквита. Эти дневные мечты всегда заканчивались ощущением болезненного переполнения в его чреслах и извержением спермы, что было скорее мучением, чем удовольствием. А затем Гарольд засыпал. Сперма высыхала на складках его живота. У каждой собаки есть свой день.
И теперь вот эта старая боль, которую он подгребал к себе, как опавшие листья, эти черные фантазии — старые друзья, которые никогда не умирают, чьи зубы никогда не притупляются, чьи давние привязанности никогда не меняются.
Читать дальше
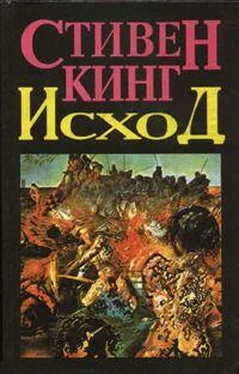



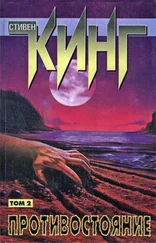





![Стивен Кинг - Противостояние. 5 июля 1990 – 10 января 1991. Том 2 [litres]](/books/422878/stiven-king-protivostoyanie-5-iyulya-1990-10-yanvar-thumb.webp)
![Стивен Кинг - Оно. Том 2. Воссоединение [litres]](/books/423689/stiven-king-ono-tom-2-vossoedinenie-litres-thumb.webp)
![Стивен Кинг - Оно. Том 1. Тень прошлого [litres]](/books/429141/stiven-king-ono-tom-1-ten-proshlogo-litres-thumb.webp)