И всю ночь цыган резал.
С утренним… грузом… нацисты решили… попробовать новенькое. Раздели прибывших… выстроили… на краю ям… по двадцать, по тридцать. А потом стали играть… на выбивание. Стреляли в тело… если сможешь понять… чтобы оно разлетелось прежде… чем упасть. Раскрылось, как цветок.
Весь следующий день. Всю следующую ночь. Копали. Ждали. Вырезали. Убивали. Хоронили. Снова и снова Потом… в конце второго дня, наверное… я разозлился. Не на нацистов. За что? Злиться на человеческое существо… за то, что оно убивает… за жестокость… все равно что злиться на лед, что он морозит. Просто… это ожидаемо. Поэтому я разозлился… на деревья. За то, что стоят тут. За то, что зеленые и живые. За то, что не падают, когда в них пули попадают. Я начал… орать. Попытался. По-еврейски. По-польски. Нацисты поглядели, я думал, они меня пристрелят. Они засмеялись. Один начал хлопать в ладоши. Ритм. Понимаешь?
Деду как-то удалось поднять непослушные руки с подлокотников и свести вместе. Они столкнулись со щелчком, будто две сухие ветки.
– Цыган… просто смотрел. Все еще плакал. Но еще… потом… кивнул.
Все это время глаза моего деда были опухшими, будто в его тело закачали слишком много воздуха. Но тут воздух с шумом вышел из него, глаза потухли, а веки опустились. Я подумал, что он снова заснул, как вчера вечером. Но все еще не мог пошевелиться. С трудом понял, что за долгую дневную прогулку взмок и теперь замерзаю.
Веки на глазах деда слегка приоткрылись. Он глядел на меня, будто из-под крышки сундука, крышки гроба.
– Я не знаю, откуда цыган знал… что это конец. Что пришло время. Может, просто потому… что прошло много часов… полдня… между грузами. Мир… затих. Мы. Нацисты. Деревья. Трупы. Бывали места и похуже… я думал… перестать жить. Несмотря на запах. Наверное, я спал. Должно быть, потому, что цыган тряхнул меня… за плечо. Показал то… что сделал. Он… уравновесил это… на палке, которую согнул. Фигурка шевелилась. Туда-сюда. Вверх-вниз.
Я разинул рот, да так и остался. Я стал камнем и песком, воздух проходил сквозь меня, не оставляя во мне ничего.
«Жизнь», – сказал мне цыган, по-польски. Я впервые слышал, чтобы он говорил по-польски. – «Жизнь». Понимаешь?»
Я покачал… головой. Он снова сказал. «Жизнь». А потом… не знаю, как… но я… понял.
Я спросил его… «Почему не ты?» Он достал… из кармана… одну из старых фигурок. Две девочки. Держащиеся за руки. Я не замечал раньше… руки. И я понял.
«Мои девочки, – сказал он. Снова по-польски. – Дым. Ничего. Пять лет назад». И это я понял.
Я взял у него фигурку. Мы ждали. Спали бок о бок. В последний раз. И пришли нацисты.
Заставили нас встать. Мало их было. Остальные ушли. Нас пятнадцать было. Может, меньше. Они что-то сказали. По-немецки. Никто из нас немецкого не знал. Но для меня… по крайней мере… это слово значило… беги. Цыган просто… остался стоять. Умер там же. Под деревьями. Остальные… не знаю. Нацист, что поймал меня… смеялся… мальчишка. Не сильно… старше тебя. Неуклюже держащий оружие. Слишком большое для него. Я поглядел на свою руку. Держащую… статуэтку. Деревянного человека. «Жить», – начал распевать я… вместо «Шема Исраэль». И нацист выстрелил мне в голову. Бах.
С этим единственным словом мой дед потерял сознание, будто выключатель щелкнул. Обмяк в кресле. Мое оцепенение продлилось еще пару секунд, а потом я замахал руками перед собой, будто пытаясь увернуться от того, что он мне рассказал. Делал это с такой силой, что не заметил поначалу, как дергается грудь деда, как он хрипит. Хныча, я опустил руки, но грудь деда уже не подымалась, он обмяк сильнее, упав вперед, и не шевелился.
– Люси! – завопил я, но она уже сама выбежала из дома. Вытащила деда с кресла и положила на землю. Нагнулась к нему, сдвигая маску вверх, но прежде, чем их рты соприкоснулись, дед кашлянул, и Люси отпрянула, всхлипывая и натягивая маску обратно.
Дед лежал на земле, будто россыпь костей в грязи. Шипел кислородный баллон, синеватая трубка, идущая к маске, запотела.
– Как? – прошептал я.
– Что? – спросила Люси, стирая слезы.
– Он сказал, что ему выстрелили в голову.
Лишь сказав это, я в первый раз ощутил этот холод, ползущий из кишок в желудок, а потом к горлу.
– Прекрати это, – сказал я, но Люси подвинулась вперед, так, что ее колени оказались под головой деда, и не обращала на меня внимания. Я увидел над головой наполовину скрытую облаками луну в черном небе, будто приоткрытый глаз ядозуба. Спотыкаясь, я пошел мимо дома и, даже не думая, вошел в хоган.
Читать дальше

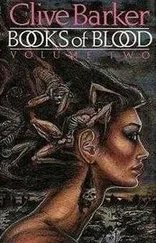

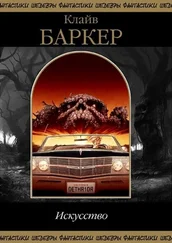
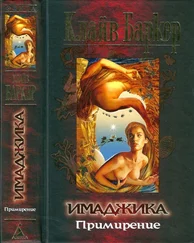

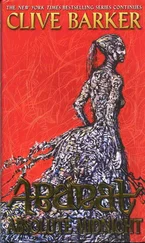
![Клайв Баркер - Книги крови. I–III [сборник litres]](/books/395030/klajv-barker-knigi-krovi-i-iii-sbornik-litres-thumb.webp)

