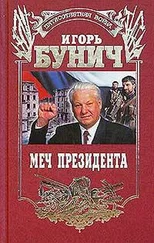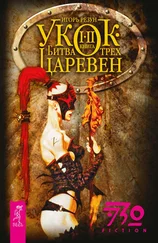А дома просто провалился в небытие. Уснул.
* * *
Управление оглохло и ослепло: почти двухмиллионный город спрятали от него с такой же легкостью, с которой фокусник прячет белого слона на черном фоне под черной же ширмой. Погасли точки на экране, разбитом в пластиковую щепу, умолкли телефоны и все, даже люди, стало дезактивировано. Мертвая вода… Мертвая! Чистейшая родниковая, из подземного озера, местонахождение которого пытались определить тут с тысяча девятьсот тринадцатого года, основываясь на предположениях профессора Российского Императорского общества естествознания господина Фасфаттера. Она была безупречной для питья, в ней ни один прибор не нашел бы ни одного вредного микроорганизма, и ее даже не успели отравить ни аммиачные стоки, ни бензольные кольца, ни фосфатные примеси. Нет, сама ощищая себя под чугунным Лениным и одноименной площадью, эта водица таила иную страшную силу. Она была мертвая. Идущая от Земли. Даже не столько мертвая, сколько успокаивающая и весь свой срок яростно спорящая с Небом, дающим воду живую.
Люди, конечно, обрадовались. Как простые нормальные человеки, они обрадовались возможности побыть с семьями, махнуть на шашлыки или рыбалки, вонзить острое жало лопаты в черное живое тело дачной гряды. У них образовались каникулы на пять или шесть дней, пока последняя капля мертвой воды, пропитавшая и стены, и щели, и их одежду, и проводку, не выветрится, не высохнет под натиском посланника Неба – ветра. И только Заратустрову было не во что втыкать лопату и не с кем проводить время.
Он вытребовал себе местечко подле дежурного по городу, дремал целыми днями в кресле, сопел, провонял сигарами курилку УВД и перечитал все материалы на пыльных стендах в Общественной приемной. Он набрасывался на каждую сводку, как только ее шуршащая лента, сладковато пахнущая тонером, выползала из факса, прочитывал сухие строчки. ИСКАЛ. Что?! Все необычное. Все странное. Все – цепляющее. Но А и Б по-прежнему сидели на трубе, а потом А наносил Б сорок семь рубленых ран топором и ложился спать, чтобы с утра ничего не помнить. Все было старо в этом самом старом из миров.
Оставшееся время Заратустров просто гулял.
* * *
Как только чугунная головка молотка вонзилась в нутро монитора, произошла белесая, почти невидимая вспышка. И в тумане обычной жизни, в пелене мелочей и сиюминутностей трубным голосом завыл ревун, неслышный, а точнее – слышный немногим.
У гипертоников, оказавшихся поблизости, скакало давление; коты, попутав август с мартом, полезли на крыши. Старички начали щипать за каменные задницы своих старух, а у молодых мачо на бухающих музыкой «бумерах», наоборот, начисто пропадала потенция, стоило им затормозить в Шевченковском. Ревун молотом пробивал пространство. Он был одновременно адресован никому и в то же время всем. Это был SOS тонущего корабля, отчаянный вопль «Титаника», и тут только Бог мог решить, кому его услышать, а кому – нет. Его услышали многие из сотрудников Спецуправления, но почти никто не мог вычислить координаты: сигнал тревоги на то и сигнал, чтобы быть экстренным, не давать указаний, а просто звать на помощь – крайняя, ни на что не надеющаяся мера.
Санечка, чудесное создание во всем черном, с такими же анилиновыми, иссеченными на кончиках волосами и черной – специальной! – помадой на пухлых губах, в это время смотрела, как ее подруга Клиомелла набирает в шприц воздух. Два кубика. Нормально. Девушки договорились уйти вместе и поэтому сидели сейчас на траве первомайского сквера, самого центрового и центрального в городе. Сидели, скинув с распаренных ступней тяжеленные бутсы на платформе, из черной кожи, с черепами на мысках, как того требует этика гОтов, и обратив в марево дня свои худые, разрисованные фиолетовыми тенями лица шестнадцатилетних страдалиц. Жизнь жестока и ужасна, и она есть не что иное, как приготовление к Смерти. Они прошли этот путь быстрее, чем остальные.
Девушки не договорились лишь о том, кто уйдет раньше. Самоубийство посреди сквера, в паре метров от гугукающих голубей, разноцветных шариков в руках карапузов и спешащих людей, было достойным завершением их маленькой, но успевшей вместить столько переживаний жизни. Последними в этой цепочке страданий должны были стать красноватые шишечки мозолей от грубой обуви, носимой все лето, в любую погоду, как того требует готская мода. Смерти хотелось, но эти точки явно мешали. И чесались. Санечка потянулась и энергично растерла ступни, обхватив их руками. Наверное, в последний раз.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу