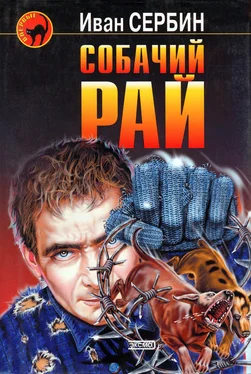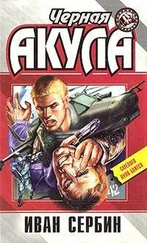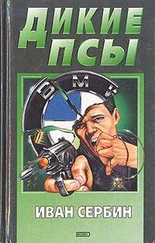Волков положил трубку, постоял несколько секунд, раздумывая, не позвонить ли ему в отделение, не поинтересоваться ли у Чевученко насчет ответа на запрос, но не стал. Что толку? Даже если и обнаружится что-то интересное, сейчас работать не начнешь. Ночь на дворе.
Хотя и спать — не спится. Познабливало его что-то. Простыл, видать, на пустыре. Теперь на губах простуда повылезает. Всегда вылезает, стоит какой-нибудь плевый насморк схватить, и через день-другой — будьте любезны.
Волков подошел к окну, отодвинул занавеску. Прямо за стеклом горел фонарь, высвечивая из темноты клок узкой подъездной дорожки, ветви не успевших облететь лип и крыши припаркованных на тротуаре машин. Внезапно в желтом пятне света проплыла широкая черная спина собаки. Волков вздрогнул. Наверное, потому, что происшествия последнего дня были связаны именно с собаками и именно «собачий вопрос» занимал в его мыслях главное место — увиденное показалось дурным знаком. Колыхнулась под сердцем мутная взвесь тревоги.
Следом за первой собакой пробежала вторая. Затем третья. Собаки мелькали в свете фонаря одна за другой, и если бы не менялся окрас и ширина спин, Волков бы подумал, что они, озорства ради или повинуясь какому-то безумно древнему инстинкту, бегут по кругу. Он никогда еще не видел столько собак одновременно. Их было не меньше полутора сотен, и они походили на скользящих в океанском безмолвии акул, выхваченных из тьмы лучом корабельного прожектора. Было что-то устрашающе-хищное в их молчаливом, целенаправленном беге. Уличная темнота и темнота, царящая в комнате, объединяли два этих мира в один. На какое-то мгновение Волков даже почувствовал себя рыбешкой, случайно оставшейся в стороне, не замеченной хищной стаей и лишь поэтому счастливо избежавшей неминуемой гибели.
Даже морозец пробежал по спине. А может, это был температурный озноб, а видение — болезненной игрой воображения?
Волков сунул ладони под мышки, зябко повел плечами, поморщился. К языку пристал неприятный, простудный привкус. Тягучий и вязкий, словно бы он пожевал кусок школьной промокашки.
Постояв у окна несколько минут, Волков пошел в кухню, растворил в воде пару таблеток аспирина, выпил залпом. Не любил он аспирин, но помогало при простуде, что да, то да. Затем отправился в комнату, включил свет. Достал с книжной полки томик Булгакова. Забрался под одеяло, открыл книгу и усмехнулся невесело. «Собачье сердце». Захочешь — лучше не подберешь. Он не успел прочитать даже страницы — забылся тяжелым болезненным сном.
В этом сне он стоял против огромной армии собак и пытался объяснять им что-то важное, но они не слушали, зевали лениво и о чем-то переговаривались на своем собачьем языке, время от времени посматривая на него, мол, когда уже закончится эта болтовня и настанет черед обеда. Он говорил и говорил, боясь остановиться. И в какой-то момент им это надоело. Огромная псина — безумная смесь самых разных пород и окрасов — лениво поднялась, шагнула ближе и, удивительно далеко вытянув шею, вцепилась ему в бок. Это и послужило сигналом для остальных. Свора кинулась на него. Волков попытался закричать, открыл рот, но вместо крика из груди вырвалась… звенящая металлом трель.
Он вздрогнул и проснулся. Верещал стоящий на столе будильник, горела лампа, томик Булгакова покоился под боком, болезненно давя жестким корешком под ребра — в то самое место, куда вцепился мохнатый монстр.
Сквозь щель между занавесками в комнату старательно протискивалось серое, вялое утро.
Первоначальный шок прошел. Люди погрузились в апатию. Кто-то расхаживал между прилавками, безучастно рассматривая яркие коробки, упаковки, баночки и банки, пакетики и жестянки. То, что вчера еще радовало глаз и доставляло удовольствие, сегодня смотрелось ненужной пестрой мишурой. Вроде оставшихся после праздников гирлянд, серпантина и усыпавшего пол конфетти.
Кое-кто спал. Не потому, что были слишком уж спокойны и обладали завидно крепкими нервами, — такова оказалась реакция психики на потрясение. Осокин и Наташа устроились у холодильников. Осокин притащил из отдела хозтоваров детские надувные матрасы для плавания, надул их и бросил на пол. Многие тут же последовали его примеру. Матрасы брали по два-три. Осокин обратил внимание, что взрослые люди сворачивались клубком, принимая позу эмбриона — классический признак того, что психика чересчур перегружена и на горизонте замаячил нервный срыв.
Читать дальше