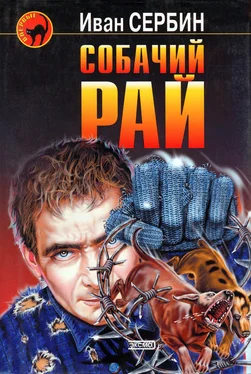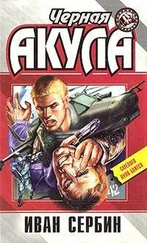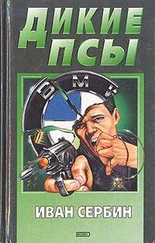Физкультурник бросил окурок вниз, проследив за траекторией полета рубиновой искры. Громила передвинул свой в уголок рта, закусил. Тоже неплохо, пусть уж ему дым в глаза лезет. Оба наклонились, подхватили за воротник и штанины патрульного Володю, принялись раскачивать.
Родищев наблюдал за происходящим спокойно. Плевать он хотел на этого парня, пусть хоть три раза его с крыши бросают. Собственно, он вообще не мог объяснить внятно, откуда взялась в его голове эта шальная мысль: спасти Осокина. И почему именно его, а не кого-нибудь другого? Их там, в зале, до чертовой матушки осталось. Были и такие, кто не постоял бы за ценой. Почему именно Осокин? Наверное, дело в глазах. В страхе и обреченности, которые плескались в них, когда приговоренных вывели на крышу. Он-то, Родищев, заметил и выражение ужаса на лице Осокина, и серые, потрескавшиеся губы, и подгибающиеся колени.
Так же безнадежно-беспомощно выглядел тщедушный, уродливый подросток — Игорь Родищев, — когда его тащил за школу, на глухой хоздвор, гурт одноклассников — «мудохать». «Вы куда, пацаны? — Гуинплена мудохать! — Погодите, я с вами».
Двенадцатилетние компрачикосы понятия не имели, кто такой Гуинплен. Просто повторяли понравившееся загадочное словечко, брошенное в адрес Родищева тихой садисткой — их заслуженной учителкой, классной руководительницей, ставшей позже директором школы. Ничтожества, не прочитавшие ни до, ни после ни строчки Гюго, зато наизусть знавшие лживого «Тимура» с его блядской командой. Игорь Родищев не читал Гайдара, зато к двенадцати проштудировал полное собрание сочинений Гюго и помнил дословно первую главу «Человека, который смеется». Историю отношений Урсуса и Хомо, Человека и Волка. Тимуровские выкормыши мечтали стать столь же показательно-лживыми, безрассудно-храбро переводили через дорогу одиноких старушек и, непременно ватагой, «мудохали» по подворотням одиноких «Квакиных», наплевав на принципы «лежачего» и «первой крови». Потягивали в сырых, вонючих подъездах серых «хрущевок» копеечный портвейн, покуривали украдкой, а дома зазубривали: «Я, имярек, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации…» и «Взвейтесь кострами…». А пока они водили старушек и клеили на двери, вопреки матерящимся хозяевам, звезды, вырезанные из тетрадных листов, он, Игорь Родищев, повторял, как клятву, как молитву, впечатывая в память на веки вечные: «Главной особенностью Урсуса была ненависть к роду человеческому. В этой ненависти он был неумолим».
В этих двоих, накачанных, сильных и наглых, он вдруг увидел тех самых малолетних компрачикосов, а в Осокине — двенадцатилетнего «Гуинплена». Себя.
Они отпустили Володю и проследили за ним взглядом с тем же любопытством, с каким следили за брошенным в темноту окурком. Тело полетело по широкой дуге, сперва вверх, затем плавно, как с горки, — вниз, скрылось за срезом крыши. Затрещали кусты, раздался глухой удар, и тут же завозились, залаяли собаки.
Родищев был в двух шагах, когда они повернулись, намереваясь заняться Осокиным, и увидели его. Но были эти двое тупыми, ленивыми животными, живущими даже не на инстинктах, инстинкт бы вывез, а на спинномозговых рефлексах — жрать, спать, испражняться, спариваться, — и поэтому не сразу оценили увиденное: караульного, идущего к ним, и тело второго, лежащее метрах в двадцати, на середине крыши, аккурат напротив рекламно-громадной буквы «с» в слове «универсам».
— Ты че? — спросил озадаченно физкультурник, а в следующую секунду, когда острейшее английское лезвие полоснуло по животу, раскрыв его, словно пирог с требухой, ойкнул по-детски изумленно и обиженно.
Громила оказался проворнее. Оскалился, как сторожевой пес, схватился за автомат. Голыми руками убивать не умел, не привык, и терял драгоценные секунды, упуская и без того призрачные шансы на жизнь.
Родищев не стал бить его ножом. Просто метнулся вперед и как тараном боднул головой в живот. Громила сделал шаг назад, запнулся о приступок, стал заваливаться, но удержался, ухватив Родищева за камуфляжную куртку на спине, скомкав ее, собрав в крепкую жменю. Родищев присел, рванул пуговицы, завел назад руки, освобождаясь от куртки, выскальзывая из нее, как змея выскальзывает из старой кожи.
Прежде чем упасть, громила успел осознать, что опоры больше нет, но пальцы его продолжали судорожно сжимать плотную ткань, словно в этом и заключалось спасение. Короткий вскрик, полет, звук удара и в конце рычание псов.
Читать дальше