Цирковой номер удался на славу. Когда Томас прихватил мясистый нос Дяди, бедняга не то, что упал на землю и завыл, а завизжал, стал хрюкать, блеять и, как младенец, пустил слюну. Среди всхлипов отчетливо слышалось: «Мамочка, мамочка...».
— Ну, разве, что ради мамочки, — прошептал Томас и отпустил.
Дядя кулем свалился на бок и начал рыдать, закрыв ладонями лицо.
История, начавшаяся как балаганное представление, завершилась греческой трагедией. Неизвестно откуда в руке у Романа появился нож. Братаны, Витя и Алеша, как оловянные солдатики встали по бокам завывающего дяди — теперь уже с маленькой буквы -подхватили, приподняли, и Рома доказал, что умеет резать не только хлеб.
Визг оборвался на фаринеллевой ноте. Братаны оттащили тело к обрыву, руки-ноги связали неизвестно откуда народившейся проволокой, затем прицепили её к валявшемуся здесь валуну и как полицейские-собаки из кино бросили дядю-буратино в пруд. Рома, подойдя к краю, заглянул вниз. Там не было никаких тортилл, золотых ключиков и квакушек. Зеленая вода рябью отражала солнечные лучи, бегущие тени туч. Он почувствовал, что его рубашка промокла от пота так, словно он, а не Томас сейчас нырял в карьер.
— Не всплывет?— в голосе Ромы было больше любопытства, чем опаски.
Школьник принял из его рук нож и передал назад.
— Брюхо же вспорол?
— Да.
— А чо спрашиваешь?
Леший с ухмылкой обратился к Томасу:
— Ну, что, брат. Добро пожаловать в наш уютный уголок. Откуда будешь?
— Оттуда.
— И что там?
— Также весело.
— А где щас грустно? — кругом шапито, — прошептал Леший и с досадой махнул рукой.
Через полчаса после вышеописанных столь неожиданных событий вся компания сидела в ресторане на проспекте Пушкина и поминала Дядю. Школьник со свитой и Рома с братанами — за одним столом, Леший и Томас — чуть поодаль за другим.
— Ну, давай знакомиться. Пал Сергеич Крымский. Крымский — это фамилия.
— Давай. Томас Чертыхальски.
Рукопожатие было странным — одними пальчиками.
Выпили не чокаясь.
Леший отломил кусочек черного хлеба. Отправив в рот, пожевал.
— Надолго к нам?
— На месяц, может дольше.
— Издалека?
— Киев.
— Шедеврально. С Хлеборезом.
— Мелочи.
— Ты, это, извини, если что. Дядю давно надо было сковырнуть, а тут такой случай... Не удержался.
— Я понял.
— Не знаю, как объяснить. Я-то понял, что ты понял, просто...
— Нервничаешь...
— Ага, — признался Леший. — Не каждый день сидишь за столом ... э...
— Я не по рождению.
— Бывает такое?
— И не такое бывает. Ладно, — Тихоня, отодвинув стул, поднялся. — Меня ждут. Да, ещё... Не ищи меня.
— Нервничаешь? — настала очередь усмехнуться Лешему.
— Я с вашим племенем... Вы сами по себе, я сам по себе. Отдыхать приехал.
— Искать не буду, но, если понадоблюсь, вот, — Леший-Крымский положил на стол карточку.
Засовывая визитку в кармашек сумки, Томас сказал:
— Я пойду.
— Именинник не обидится? Может, мировую?
— Увидишь, он даже рад будет.
Кивнув второму столику, Томас Чертыхальски направился к выходу. Так и есть, — когда за его спиной закрылась дверь, Рома почти незаметно опустил плечи и осунулся, как будто из него вышел весь воздух.
Поймав такси, Томас приказал отвести его к Шанхаю. Заметив в зеркале заднего вида удивленный взгляд водителя, добавил: «Или что там он него осталось».
Когда-то Шанхай осьминожными щупальцами растекался по склонам балок, стелящихся ниже террикона самого старого в Городке Первого рудника. С запада поселок обнимала Штеровка; на востоке и севере селились рабочие с артиллерийского машзавода; на юге, на высоком берегу зеленела Солидарка. Поселок рабочих коксохима и Шанхай разделяли мёртвые, наполненные шахтной водой пруды.
Томас закрыл глаза и перед его внутренним взором встали две размытые картины полузабытой древности и недавнего прошлого, как бы наложенные друг на друга. Неровные линии лачуг и мазанок, сараи для птицы и скота, свинарники, конюшни. Сбитые из почерневших досок бараки и казармы для неженатых горняков. Память, как чердак заброшенного дома загромождали стертые, не имеющие четких очертаний образы и яркие пятна: отрывные календари, желтые газеты, потрескавшиеся зеркала на стенах, красные платья в горошек, голые ляжки, тусклый свет лампочек без абажуров над потолками; тёмные, воняющие кошачьей мочой коридоры, где в клубах табачного дыма бродили люди-тени. Дышать там было невозможно от вони перекисшего творога, подгоревшего масла и карбида. Из глубины прожитых лет его звали лачуги, где тяжелый дух от сохнущей спецовки и жареной селедки перебивал кисло-сладкий аромат забродившей браги.
Читать дальше
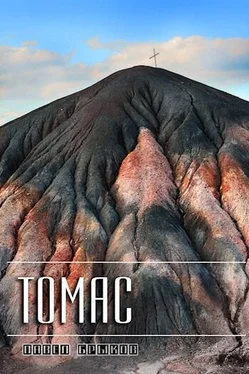

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)
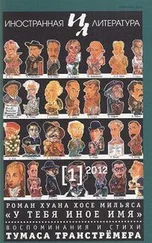





![Павел Брыков - Зеница рока [СИ]](/books/412195/pavel-brykov-zenica-roka-si-thumb.webp)

