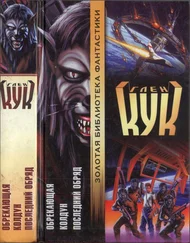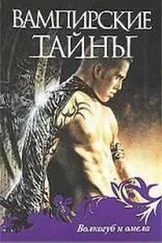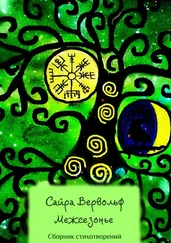— Что думаешь делать? — повторил вопрос Харли.
Вервольф — не гангстер. Наш черный юмор. Я посмотрел в окно. Снег наступал с неизбежностью ветхозаветного мора. Прохожие скользили в блестящей колючей пелене, которая создавала иллюзию, будто они все еще дети, а потом — при резком вздохе — ошеломляла воспоминанием, что детство уже прошло, и прошло безвозвратно. Две ночи назад я сожрал специалиста по страховым фондам. Я был в фазе, когда покушаешься на самых неприглядных типов. Возможно, в последней моей фазе.
— Ничего, — ответил я.
— Тебе лучше уехать из Лондона.
— Зачем?
— Не время рассуждать.
— А по-моему, самое время.
— Глупости.
— Харли…
— Сейчас твой долг — выжить. И наш тоже.
— Что-то я сомневаюсь в вашем долге.
— Тем не менее. Ты должен жить. И избавь меня от своей поэтической чепухи об усталости. Это ложь. И дурной тон.
— Это не дурной тон. Я устал.
— От жизни, от предсказуемости, от глупости, от фальши… — Харли нетерпеливо взмахнул рукой. — Да-да, я все это слышал. Но я тебе не верю. Ты не имеешь права сдаваться. Ты любишь жизнь без всяких причин. Бога нет, но это его единственная заповедь. Пообещай мне.
— Пообещать что?
— Что не будешь сидеть сложа руки, пока Грейнер пытается выследить тебя и убить.
Раньше, воображая этот миг, я наделял его ощущением абсолютного облегчения. Миг настал и действительно принес облегчение, но оно не было абсолютным. В груди, выражая протест, метался жалкий огонек эгоизма. Не сказал бы, что он загорался так уж часто. Сейчас он вызывал лишь невеселую усмешку — как случайная эрекция у старика.
— Они его застрелили? — спросил я. — Герра Вольфганга?
Харли сделал глубокую затяжку, и, выпустив дым из ноздрей, расплющил «Голуаз» о днище обсидиановой пепельницы.
— Нет. Эллис отрезал ему голову.
Вся система демонстрирует аморальную жажду новизны — и победа Обамы на выборах тому подтверждение. Это все равно что Освенцим в свое время. Рассуждения о добре и зле здесь неуместны. Докажите, что мир не такой, к какому мы привыкли, и вы осчастливите некоторых из нас. Свобода закончилась. Смертные приговоры вызывают только психопатический восторг — а мой приговор явно запоздал. Я волочил себя по жизни десять, двадцать, тридцать последних лет.
Сколько живут оборотни? Мадлин меня недавно спрашивала. Если верить ВОКСу, около четырех столетий. Понятия не имею, как . Каждый погружается во что горазд — санскрит, Кант, высшая математика, тайцзи, но все это относится лишь к проблеме Времени. Проблема Бытия остается туманной как никогда прежде. (У вампиров временами начинается помешательство на кататонии — что, в общем, неудивительно.) Я последовательно перепробовал гедонизм, аскетизм, спонтанность, рефлексию, — все, от убогого сократизма до состояния счастливой свиньи. Мой механизм износился. У меня нет сил. Я все еще могу испытывать эмоции, но они оставляют лишь опустошенность — которая, в свой черед, опустошает. Я просто… Просто не хочу больше жить.
Беспокойство Харли переросло в отчаяние, а после — в меланхолию, однако я оставался в совершенно спокойном, даже мечтательном настроении. Отчасти дело было в отупении, которому я сознательно поддался, отчасти — в дзеноподобном принятии всего, отчасти — в банальной неспособности сосредоточиться.
Ты не можешь оставить все вот так, сказал он. Нельзя, черт возьми, плыть по течению. Сначала я отделывался фразами вроде «А почему нет?» и «Еще как можно». Но он так разнервничался, что пришлось достать трость, я испугался за его сердце и сменил курс. Дай мне все переварить, сказал я. Дай обдумать. Дай в конце концов отлежаться, как я и собирался — пока мы тут разговариваем, деньги капают впустую. Это была правда (Мадлин ждала меня в престижном отеле на другом конце города, и я уже уплатил за ночь 360 фунтов), но Харли она не слишком впечатлила: три месяца назад операция на предстательной железе оставила от его либидо одни воспоминания и лишила лондонских мальчиков по вызову чрезвычайно щедрого покровителя. К счастью, мне удалось бежать. Пьяный вдребезги, он обнял меня, заставил напялить теплую шапку и взял обещание, что я позвоню через день, когда, повторял он снова и снова, перестану строить из себя Гамлета и выброшу из головы эту сопливую патетическую дурь.
Я вышел под снегопад. Автомобили стояли в мучительном оцепенении, подземка Эрл-Корта была закрыта. Несколько секунд я просто привыкал к морозной едкости воздуха. Я не знал Берлинца, но разве он не был мне родней? Он почти попался в Шварцвальде два года назад, бежал в Штаты и пропал с радаров в районе Аляски. Если бы он оставался в лесах, то, возможно, сейчас был бы жив. (Мысль о лесе вызвала в воображении призрачный волчий силуэт и заставила холодные пальцы пробежаться по шкуре, которой здесь не было и быть не могло; горы, будто отлитые из черного стекла, глыбы льда и вой, от которого начинает горячо шуметь кровь в ушах, вой в небо, наполненное ароматом снега…). Но дом всегда зовет. Он тянет к себе, чтобы напомнить: ты принадлежишь этой земле. Они настигли Вольфганга в двадцати милях от Берлина. Эллис отрезал ему голову. Смерть существа, которое ты любил, наполняет жестокой красотой все вокруг: облака, перекрестки, лица, рекламу по ТВ. Горе переносимо, когда его с тобой разделяют. Если ты последний в роду, разделить горе не с кем. Ты абсолютно одинок даже среди толпы новых, невесть откуда взявшихся друзей.
Читать дальше