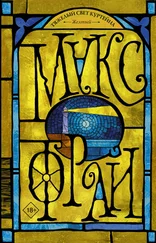Запись, конечно, все равно сразу стер – не потому что она ему не понравилась, просто не была нужна для работы, а значит – вообще не нужна. В последнее время в нем проснулась страсть избавляться от лишнего. Вынес из дома добрую половину одежды и всю бумажную библиотеку, включая книги, которые сам когда-то переводил – ну его на хрен, этот пыльный памятный мемориал. Удалил аккаунты в соцсетях, оставил только фейсбук для быстрой связи с клиентами. И письма удалял, едва прочитав, если в них не было полезной рабочей информации. И записки с напоминаниями о делах, которые клеил на стены и холодильник – даже не просто выбрасывал, использовав по назначению, а сжигал, получая от этого почти физическое удовольствие. И фотографии, которые по старой привычке все еще изредка делал, сразу же стирал. Иногда ловил себя на желании вытереть тряпкой свое зеркальное отражение – один я уже есть в этом мире, зачем второй экземпляр? Но с отражениями приходилось мириться, способа от них избавляться наука пока не изобрела.
Сидел, смотрел в темноту за мокрым оконным стеклом. Представлял, что поезд стоит на месте, а вся остальная реальность, состоящая из темных пятен лесов и разноцветных огней, сама улетает куда-то вдаль, и в общем правильно делает, что улетает, сам бы, если бы мог, улетел. Потом, кажется, задремал. Ну или просто так глубоко задумался о полетах, веселых покойниках и вымышленных городах, что не заметил, как прошло почти два часа.
На самом деле обидно, что так быстро приехали. Только-только угрелся как следует, даже горло почти перестало саднить, и вдруг нате – конечная остановка, главный вокзал, пора выходить.
Ладно, ничего не поделаешь. Надел неприятно сырую холодную куртку, вышел из поезда, некоторое время стоял на перроне, клацая зубами от озноба и с вожделением поглядывая на табло с расписанием отходящих поездов: столько соблазнов! Но завтра работать, а сегодня – лечить простуду. Поэтому – хватит, все. И так отлично прокатился, не жадничай, – говорил себе Эдо, пересекая вокзальную площадь, и одновременно сердито думал: рано еще. Всего семь вечера. Плевать на простуду. Жизнь одна, коротка и прекрасна; сегодня – вечно, завтра никогда не наступит. А даже если наступит, это его проблема. Не хочу домой.
В итоге нашел компромисс – не поехал домой, а пошел пешком примерно в том направлении. Петлял, как заяц, убегающий от погони, так что вскоре сам перестал понимать, где находится, и в какую сторону надо идти; трижды грелся в пустых темных барах, словно бы застывших во времени, в самом начале девяностых годов, пил там горячий грог; откровенно наслаждался стремительно поднимающейся температурой. Простуда – паршивая штука, но самые первые ее часы, если застали тебя в дороге, бывают удивительно хороши.
Домой вернулся последним трамваем, не за полночь, но близко к тому, совершенно разбитый, но счастливый, каким очень давно уже не был, даже яркий синий свет, призывно мигавший вдалеке за музеем не испортил ему настроения, хочет – пусть дразнится, я не против, светить не запретишь.
Если это тоже эффект надвигающейся простуды, надо мокнуть и мерзнуть почаще, так он тогда решил. Однако перед сном предусмотрительно принял двойную дозу таблеток – счастье счастьем, а работа работой. Хренова выставка сама себя не соберет.
Во сне тоже собирал и развешивал выставку, но не чужую, свою; то есть как бы свою, в контексте сна было ясно, что художник – он сам.
Экспозиция представляла собой набор обычных предметов – кресло, ковер, телевизор, письменный стол, холодильник, почтовый ящик, книжный стеллаж, входная дверь, электрическая плита; в каждом объекте была большая дыра, неаккуратная, с рваными краями, вывернутыми наружу, как будто неведомо что вырвалось оттуда на свободу и убежало прочь. Все вместе производило сильное и довольно тяжелое впечатление, но во сне было важно не это, а то, что дырявых предметов оказалось довольно мало, а выставочный зал ему достался огромный, почти бесконечный, уходящий куда-то вдаль, и непонятно, чем занять остальное пространство, чтобы оно работало на идею, а не просто раздражало пустотой.
Как это часто бывает во сне, он легко придумал выход: стал забираться в стены, а потом из них выходить, вернее вываливаться наружу, стараясь раскорячиться как-нибудь поинтересней, оставлял в стенах такие же рваные дыры, как на художественных объектах. Получалось, вроде бы, вполне ничего. Работа спорилась, пока он не застрял в стене, вернее, сам стал стеной, неживой, неподвижной, твердой, но все еще способной мыслить, осознавать себя, помнить, как был человеком, жил, дышал, ходил, размахивая руками, волновался, кому-то звонил, развешивал свою выставку, спешил, придумывал, перетаскивал экспонаты с места на место, а теперь никого не осталось, только черные дыры в стенах повторяют очертания тела, которого у меня больше нет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу




![Макс Фрай - Первая линия. Рассказы и истории разных лет [litres]](/books/26694/maks-fraj-pervaya-liniya-rasskazy-i-istorii-raznyh-thumb.webp)






![Макс Фрай - Все о мире Ехо и немного больше. Чашка Фрая [litres]](/books/421775/maks-fraj-vse-o-mire-eho-i-nemnogo-bolshe-chashka-f-thumb.webp)