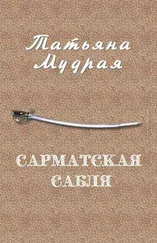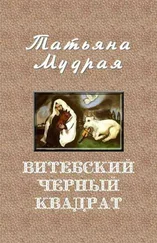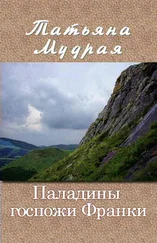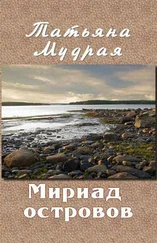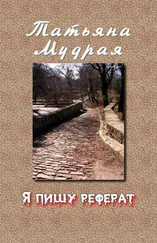Там, где в ее доме лежали закопченные камни для очага, здесь возвышался ящик, а на нем — клавиатура и странно плоский, вроде бы даже гибкий монитор персональной электронной машины, опертый на нечто размером в карманную книжку; рядом рация, судя по виду, мощная, из тех, что работают на направленном луче.
— Это, разумеется, не сетевое, а от аккумуляторов, — деловито пояснил Стагир. — Всякие модемы и паутины в нашем деле — одна помеха. Да ты что, неужели в этом отношении девственна? По рации идут оперативные шифровки, а основная информация записана на дисках, которые всадники передают по эстафете. Примитив, зато понадежнее всяких там интернетов: чужой, пытаясь прочесть, сотрет информацию в ста случаях изо ста.
— И как это вы, с подобной техникой и знаниями, так… просто живете? — спросила она более для того, чтобы уйти в сторону от разговора, который, похоже, не сулил ей ничего доброго.
— Наша жизнь отлаживалась столетиями, и каждый год нечто прибавлял или зачеркивал, но не уничтожал все сразу. Мы любим жить, чувствуя за собой вековую опору. А что тебе, собственно, в этой простоте не нравится? Кормят невкусно? Стелют жестко? Или ночью так холодно, что по нужде выйти лень?
Она встала.
— Уж отсюда я выйду.
— А тебя не выпустят, пока не разрешу я, — сказал он почти шутливо. — Понимаешь, эти диски, о которых я говорил, для защиты от преждевременного стирания возят в коробках вроде фирменных, что ли. Сверху кожаных, плоской раковиной. Таких, как твоя со священными книгами.
— Значит, по-твоему, я охотник за информацией? Шпионка Белой Оддисены, что ли?
— Нет. Одно из двух: или шпионка, или из тамошнего Братства. Они пока не снисходят до того, чтобы засылать к нам агентов.
— Третьего, значит, не дано. Теперь мне остается выбрать, за какую из двух неправд меня повесят.
Стагир, не глядя на нее, засовывал в дисковод небольшое как бы круглое зеркальце с радужным блеском: таких она не видела у себя дома. На экране мерцающее звездное небо сменилось васильковой синью, затем чернотой, по черному побежали белые строки латыни, цифр, арабской вязи…
— Ого, любопытное дело… Ладно, ты и в самом деле уходи пока. Мне временно стало не до тебя.
И снова катились дни, сначала весенние, потом летние. Мужчины покидали кочевье, пока еще солнце не вставало, и возвращались, когда уже вызвездило все небо. Целыми днями Киншем вместе с остальными женщинами возилась по хозяйству: готовили припасы. К зиме? Может быть, не только. Вялили мясо, сушили лепешки; из инжира, сливы и абрикосов делали не варенья, а тонкую, вязкую пастилу — всадникам в дорогу. За делом обменивались мелкими своими женскими сплетнями, и она чувствовала, как живой язык ее детства отогревается в ней.
Как-то, едва приехав и отдохнув, Абдо-кахан заявил:
— Мне надо в город. У меня там мужские дела, у моих жен — свои женские. Гюзли — приданое ребенку, Хулан — обновить побрякушки, Дзерен — утварь и белье для дома, то, се. Только Дзерен остается за меня, Хулан — смотреть за Гюзли. Выходит, кроме Киншем, со мной ехать некому.
— Мне нельзя в город.
— А я два раза не говорю, Киншем.
Столица Эро ничем не отличалась от тех портовых городов, куда динанские жители ездили раньше, как в свою домашнюю заграницу: высокие дома, бегающие огни реклам, со вкусом сделанные витрины, крошечные кафе и лавочки прямо на чистейших тротуарах, толпы народу и днем, и ночью, особенно ночью, как будто здесь стоял бесконечный рамадан. Автомобили везде, кроме центра, более чинного и старомодного, чем окраины. Когда их кортеж, все в теплых шелковых халатах и верхами, вступил на центральную улицу, Киншем думала, что на них сразу воззрятся, как на оживший паноптикум. Но обошлось: на эдинских туристов «в связке», с полувоенным гидом во главе, хуже вылупливались. Впрочем, уборщики, вооружась совками, поглядывали на коней с деловитым ожиданием, а молодые женщины отворачивались, старательно укутываясь в одноцветные покрывала, куда более прозрачные, чем у нее самой. И еще одна отличка от вольных городов — много полиции в черной форме, с рацией на месте кобуры и небольшими автоматами поперек груди.
Удобства своего шелкового куколя Киншем оценила уже на подступах к столице: ты видишь всех, а тебя никто. Зато заглазно обращаются как со знатной дамой, а негласно подразумевают, что ты юна и хороша собой.
Абдо снял для всех них половину этажа в звездочной гостинице (из ее личного люкса хоть сутки не выходи), оставил своей хозяйке четырех кешиков, сам исчезал на весь день, а она ездила по магазинам и лавкам, набирала вещи по списку. Расплачивались и забирали покупки ее воины, кое-что покрупнее хозяева лавок отвозили прямо в номер. К Киншем обращались не иначе как к «кукен», были вежливы без подобострастия.
Читать дальше