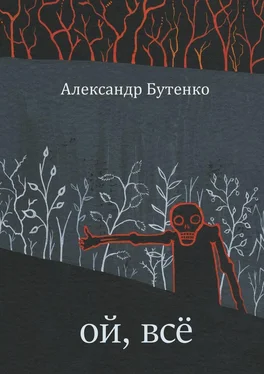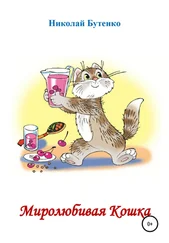С Троещины мы уехали на Харьковский массив, тоже на то время дикую околицу, но часто взаимно ездили семьями в гости.
Договаривались порой сильно заранее, и я в истоме предвкушения считал в календаре дни до того дня, когда мы все сядем в отцовскую Ниву, поедем тропами Левого Берега на далёкую Троещину, чтобы оказаться вновь в облаке обаяния этой столь не вяжущейся с Троещиной семьи, живущей на проспекте Оноре де Бальзака – тоже невесть с какого перепуга на Троещине повенчанного.
Я знал, что они евреи, но для меня это была совершенно бесполезная информация – я ничего не знал о национальностях.
Кроме того, в тогдашнем Киеве евреев жило много, это не было для меня экзотикой – прямо вот этажом выше, например, семья. Мы тоже поддерживали не сколько дружеские, сколько крепкие приятельские отношения.
Главу семьи, Алика, мы звали кроликом – за передние зубы и какие-то совершенно мультипликационные заячьи глаза, и я долгое время думал, что это такая фамилия, Кролик. Алик Кролик.
А его дочка, Аня, меня любила – брала за руку, сажала с собой на одну лавочку, когда смотрели телевизор, прижималась бедром. Я очень стеснялся, краснел и пунцовел, не знал, что с этим делать, но было очень лестно. И томяще.
Менялись времена, и я как-то неожиданно узнал, что практически все знакомые евреи вдруг собрались уезжать – и почему-то все в одно место, в какой-то неизвестный Израиль.
Я неплохо знал географию Киева и окрестностей, но местоположение Израиля было мне неведомо, из чего я заключил, что он, вероятно, очень далеко – куда-то, скорее всего, в сторону Житомира.
Я спросил у матери – а зачем им туда?
Не помню дословно, что и как она ответила, но общий смысл сводился к тому, что здесь не их страна, а там их. И тут им живётся плохо, а там будет житься лучше.
И были бы мы евреями – тоже бы поехали туда, где лучше.
Я был умным ребёнком, но всё равно, это было мне решительно непонятно – а чем лучше? А что плохого здесь?
А почему здесь они чужие? Ничего не чужие, живут себе и живут, как все – что же тут чужого?
Фактор неведомого Израиля и странного, массового мучительного желания туда уехать вдруг закрался в бытовое положение дел, заставил на себя оглядываться.
Сперва уехали Кролики.
Мама зашла ко мне в комнату: «Пойди, попрощайся с Аней».
У подъезда стояло такси, тарахтящая 24-я Волга с шестиугольниками задних фар. Дядя Алик, моргая заячьими глазами, наседал всем телом на норовистую корзинку, мешающую закрыть переполненный багажник.
Аня, тёмно-синее платье, ужасные советские детские колготы, большие очки, кудрявые чёрные волосы – очень непосредственно взяла меня за руки, чуть сжала их и сказала всего одно слово: «Прощай».
Я покраснел. И как-то вдруг в первый раз заметил, что она некрасивая. Обаятельная, но некрасивая.
С каким-то совершенно новым, странным, острым, тоскливым чувством я стоял у подъезда.
Двери захлопнулись, зажглись красным задние огни, Волга уплыла.
Мелькнула позади макушка Ани, чёрные кудри и лежащая на задней полке совершенно неуместная, глупая, бесполезная соломенная шляпа.
Кроликов я больше не видел.
Однажды они позвонили, сказали, что устроились в Хайфе.
Связь была плохая, и она прервалась в какой-то момент. Больше не перезвонили.
С тех пор что-то странное, недетское поселилось во мне. Я вдруг остро и ясно почувствовал, зачем эти люди едут в какой-то неведомый, непонятный Израиль.
И мне вдруг захотелось тоже одним деньком сесть в такси, нагрузив багажник нехитрым скарбом, и тоже уехать в Израиль – в последний раз взглянуть на высотную коробку дома, провожающих, двор, клумбу, школу.
Я остро ощутил, что среди уезжающих мне будет лучше, чем среди остающихся.
«Мам, а мы можем тоже уехать в Израиль?» – спросил я как-то, томимый задумчивостью.
«Нет, – ответила мама, – мы же не евреи».
В тот момент я, кажется, понял и наконец-то решил для себя: евреи – это те, у кого есть Израиль, в который они могут уехать.
А я не еврей. И мне ехать некуда.
О том, что Борька, тётя Наташа и дядя Миша тоже собираются уезжать в Израиль, я узнал как-то поздно и случайно – они уже целый год, оказывается, ходили на курсы языка, продали дачу и квартиру родителей в Белой Церкви.
Иврит старшим давался трудно, а Борьке, уже тогда великолепно говорящему по-английски, легко. Он, возмужавший, выросший, с нелепой чёрной щёткой первых усов, легко произносил какие-то длинные, шикающие и картавящие фразы, из которых я не мог различить ни слова.
Читать дальше