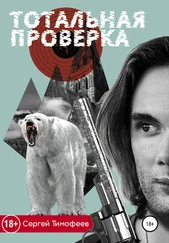Или, вот, зверье, да птицы, да гады ему повинуются. Чтоб хозяин такое дозволил? Не бывать в лесу двух хозяев. Коли в хозяйстве не один хозяин, значит, скоро ему прахом пойти. Что слово знает, тут спору нету, но вот зверье…
Понаплел народ. Со страху ли, с неведения, а понаплел. Так оно всегда бывает, коли сам не видел, а с чужого голоса песни поешь. Встал, мол, поутру, как месяц взошел, дубиной подпоясался, кушаком подперся, пошел гору на лыко драть… Что-что, а сочинять народ горазд, хлебом не корми.
Вот и выходит, впереди его либо ничего, либо застава разбойничья ожидает. Обычная, без всяких тебе чудес. А на дубах они дозорных прячут, чтобы, как кто появится, свистом остальных предупреждать. Или же птицей какой кричать, или зверем. Дубы же, — сколько их там, интересно, может ведь оказаться, один всего, — сучья-ветки с листвой так пораскинули, что издалека человека посреди них и не заметишь. Первый, кто к ним попался, второму рассказал. Тот, приукрасив, третьему. Ну, а далее, как снежный ком, потому как у страха глаза велики. Оглянуться не успели, появилось на дороге заместо стана разбойничьего чудо чудное, диво дивное, с которым никакого сладу нету. А коли так, — прощевай дорожка короткая, прямоезжая; нам и сто верст — не крюк.
Девка же, не из пугливых. Только вот кто она такая? Ни на кого не похожа; ни тебе из болотниц, ни из полевиц, ни из мавок. По виду — человек человеком, ежели б в деревне жила, али в городе. Да еще морок этот. К чему показался? Ну, землю видал; что она лесами да реками богата, и так ведомо… Муравьи? Тут долго и думать нечего: много по нашим рекам гостей с товарами ходит, что местных, что заморских. Чего морочить-то?
Вот с Долговязом морок приключился, это по делу. Он, вишь ли, как-то с суседушкой поцапался. Обидел его чем-то, или не уважил, как требуется, не в том суть. Нет, чтоб сразу помириться, прощения попросить… Обидел, да и позабыл. А тот, видать, не забыл. Зимой случилось. Собрался Долговяз на рыбалку, налима добывать. Дождался, как вечер наступил, острогу трезубую взял, топор, и подался себе на речку: там, как лед вставал, завсегда над налимьим местом майну делали. Снегу навалило, мороз, луна вышла — самая рыбалка. Только майну льдом затянуло, как-то забыли ее подчистить. Скинул полушубок, острогу рядом положил, поплевал на руки — и давай топором лед скалывать. Так разошелся, что топор утопил. Вместе с рукавицами. Ничего, домой сбегал, второй принес. А сам в такой азарт вошел, что, спустя время, и второй утопил. Причем ладно бы топор ухнул, дело наживное, он и сам в майну влетел. Ночь, в такую пору никто за водой не выйдет, орать начнешь — еще, чего доброго, волки набегут… А течение сильное, а одежда намокла, камнем ко дну тянет… Ну да ничего, кое-как выбрался. Подхватил полушубок с острогой, и бегом домой.
Добежал до окраины, идет ему кто-то навстречу. Братило оказался. Зачем, куда шел, разве ж это главное? Главное то, что он баньку растопил, а тут Долговяз по улице сосульками звенит, в городе, должно быть, слышно. Вот и потащил Братило дружка своего к себе, отогревать. Тот и не сопротивлялся. Да и куда там сопротивляться? Повезло — так повезло. Не в одном, так в другом.
Совлек с него Братило все мокрое да померзлое, бросил сохнуть на печку, поволок в баню. Баня — она спешки не любит, ей время требуется. Пока хворь, да холод, да дурь веничками из себя повыхлестают, пока скинут годков эдак по сто, глядишь, и высохнет.
Лежит себе Долговяз на верхнем полке, блаженствует. Пару раз наружу выбегал, шкуру в снегу остудить. На третий уже и дух вон. Так его Братило веничком дубовым отходил — любо-дорого. Лежит, чувствует, как пар, начиная с пяток, к голове потихоньку ползет, кожу сымает. Видит, дружок его в предбанник вышел, а дверь не закрыл. «Ты чего там?» спрашивает. «Да вот, кваском холодным остудиться», тот ему отвечает. «Ты уж, не сочти за труд, и мне ковшик поднеси». «Чего ж не поднести?» Глянул Долговяз, а к нему рука с ковшиком из предбанника тянется. От полка до двери шагов пять — а она тянется, вот уж и рядом совсем. Свету белого не взвидел; откуда только силы взялись. Взлетел с полка, аки птица и задал стрекача, как только двери не свернул. Выскочил на улицу, в чем мать родила, и к себе.
Не успел сколько пробежать, ткнулся в кого-то, с ног сбил. Оказалось, Братило. Теперь уже вроде настоящий. Сорвал с себя шубу, укутал дружка, в избу повел. Усадил за стол, меду крепкого поднес. Тот выпил, рассказывать принялся, что да как с ним такое приключилось. Рассказывает, а у самого зуб на зуб не попадает — не от холода, от страху. Принес ему Братило кое-какую одежонку, чтоб до дома дойти; тот оделся кое-как, вид, конечно, что пугало огородное: потому как что одному вдоль дадено от рождения, другому — поперек, ну, на один на колобка смахивает, а другой — на жердь тынную. Одно плохо — на ноги нацепить ничего дружок не принес. Долговяз и кричит ему в сени, — тот вышел за чем-то, — чтоб, мол, чуни какие посмотрел, ненадолго. «Так, может, тебе мои подойдут?» из сеней спрашивают, и видит Долговяз, тянется к нему оттуда через порог нога. До дверей шагов десять, а она все тянется. Завопил, — и деру.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу








![Сергей Кольцов - Пылающие города [Author.Today]](/books/408539/sergej-kolcov-pylayuchie-goroda-author-today-thumb.webp)

![Сергей Тимофеев - Как Из Да́леча, Дале́ча, Из Чиста́ Поля... [CИ]](/books/428372/sergej-timofeev-kak-iz-da-lecha-dale-cha-iz-chista-thumb.webp)