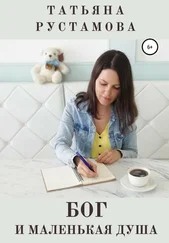Язык Амалы был ей не понятен, но язык мольбы говорил сам за себя: ей нужна чья-нибудь помощь. Мэри выбежала в прохладу улицы и попыталась позвать на помощь, но ее будто бы не существовало – ни один прохожий не услышал жалобных криков маленькой девочки, никто не остановился.
Холод пробежался по позвоночнику и засел в печенке. Когда Мэри обернулась, мимо нее прошли те пятеро мужчин, в глазах которых читалось неприкрытое удовольствие от содеянного, с недобрым огоньком озабоченного задора.
И она поняла: уже слишком поздно, чтобы звать на помощь.
Боль и страх, казалось, впервые были пережиты Мэри так ярко, когда в проеме злополучного загона она увидела скрюченную в слезах Амалу.
Но теперь они были не на оживленной улице, а в тепле ее дома – в бедно обставленной хижине, где на столе терпеливо ждал заботливо приготовленный остывший паек. Плач не утихал, а лишь набирал обороты, превращаясь в гортанные вопли, разрывающие сердце Мэри на куски.
Когда она все пропустила?
Согнувшись над сыном, Амала дрожала от слез. Обессиленные руки не слушались змеиную королеву, а подводили ее на каждом всхлипе, роняя свою обладательницу на бездыханное тело ребенка. А сам мальчик наблюдал за всем, сидя на соломенной подстилке, – он что-то плел из отрезанных угольно-черных материнских волос.
Посмотрев на застывшую в дверях Мэри, он вновь послал весточку, влез в голову, но в этот раз вмешательство было еле ощутимым, слабым.
Предостережение, более значимое, чем в первый раз, и оно ознаменовало собой огромное несчастье.
Мэри отмерла, и в следующую секунду на соломенной циновке уже никого не оказалось. Лишь толстая коса, обвязанная соломой с двух концов.
Людская жестокость отражается эхом и вызывает лавины: морок завладел Амалой, и она поняла – если бы не те пятеро мужчин, возможно, все было иначе.
Оглаживая пробитую голову сына, она как наяву видела пережитую им смерть. Приступы эпилепсии, которыми он страдал с младенчества, были неизбежны, но если бы она вернулась вовремя, он бы не разбил себе голову о деревянный пол дома.
Страх у нее забрали в грязном загоне для животных, а сердце вырвали вместе с душой родного человека. Без лишних промедлений женщина отправилась на войну.
Недрогнувшей рукой Амала убила всех пятерых мужчин самыми изощренными способами: коварно и беспощадно, воздавая всем в желаемой мере за их преступление, она забавлялась с ними вместе со своими верными хладнокровными друзьями.
Змеи покорно выполняли все ее желания – будто на инстинктивном, животном уровне они знали, что сделали их жертвы, и оттого становились еще более неистовы в своем воздаянии.
В этот момент она мстила не за себя, а за мужчину, которым бы мог стать однажды ее прекрасный сын, и за его детей, таких же светлых и желанных, которые могли бы у него родиться.
Через несколько дней ее повесили в центре города, а жены убитых истерзали мертвое тело женщины.
Это произошло 3 июля 1732 года. И с тех самых пор Амала терпеливо ждала, пока появится чистый и непорочный мальчик, чтобы вернуться к жизни и выпить ее до дна за своего усопшего сына.
Для себя она не желала ничего: ведь она не винила себя ни в жестоких убийствах, ни в своей скоропостижной смерти.
Кроме Мэри, из Люмьеров больше никто не спал.
Пламя свечи по имени Сердце
5 июля 1865
Ранним утром Мия ждала Люмьеров на прежнем месте встречи. Погода стояла на удивление безоблачная, только лужи да размокшая глина хлюпали под ногами, и, к счастью для всех, дорога не располагала возможностью к близкому общению. Сегодня их путь обещал быть более опасным – ведь целью похода был спуск в Святые Подземелья, а это означало, что и Омут Леса придется потревожить куда сильнее, чем в прошлый раз.
Когда извилистые низины Омута Леса остались позади, Мия обнажила изогнутый клинок. Точным движением сталь рассекла живую изгородь, пропуская гостей в приятный полумрак. Каждый изгиб Омута Леса имел более глубокий и темный оттенок. Прохлада коснулась кожи Люмьеров.
Чем ближе они подбирались к Святым Подземельям, тем плотнее становился воздух. Влага вбирала в себя дурман трав, мокрую землю, аромат коры и душистость листьев.
Заросшие деревья гнулись под тяжестью своей кроны, а кудрявые ветви застыли в объятиях друг друга. На секунду Виктор остановился: единство природы в Омуте Леса вовсе не было метафорой. Каждая веточка была переплетена с прочими, образуя связь с великим и могучим лесом.
Читать дальше