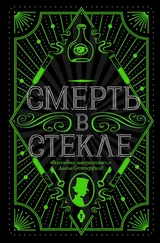Джесс Буллингтон
БОЖЕСТВЕННАЯ СМЕРТЬ ДЖИРЕЛЛЫ МАРТИГОР
В безлунную летнюю ночь, когда все сестры уже давно спали, Джирелла с остальными послушницами прокрались на крышу монастыря и попробовали вызвать демона. Однако, то ли принесенная ими жертва в виде птенца воробья, стащенного Ектенией из гнезда на окне их дормитория, оказалась недостаточной, то ли потому, что они не были настоящими ведьмами, а просто кучка скучающих подростков рвалась найти повод обнажиться и наклюкаться церковного вина под тысячами сияющих небесных глаз, — ритуал не удался.
И все же, когда мучительная смерть от кровопотери исколотого булавками воробушка в центре пентаграммы привела разве что к неловкой тишине несостоявшегося шабаша, в отличии от остальных, Джирелла не расстроилась. Она наоборот испытала облегчение, ибо Падшая Матерь услышала ее молчаливые молитвы, и Обманщик не возник воплоти и не стал искушать их. Но несмотря на это, всю оставшуюся ночь пролежала, не сомкнув глаз, сердце колотилось в груди, слезы струились по щекам, тело содрогалось от беззвучных рыданий. Раздирающее чувство вины обязывало ее встать первой в очереди на утреннюю исповедь.
На них возложили епитимью, которую Джирелла посчитала суровой, но справедливой. Однако сожительницы признали только суровость, но никак не справедливость наказания, и несколько дней спустя ее скрутили и нещадно избили, заткнув крики кляпом в виде бруска мыла и чулков. Невзирая на их шипящие обвинения, что Джирелла стукачка, девчонок она так и не сдала, ни за тот раз, ни за последующие их ночные нападения. В конечном счете, и месть, и ненависть — добродетели Вороненой Цепи. И пусть они негодовали, и все, кроме Ектении, ее избегали, Джирелла была уверена: если бы не она, то какая-нибудь другая из послушниц на ее месте призналась бы на исповеди точно так же. Она верила в ближнего.
Когда аббатиса известила ее о том, что пришла повестка от Черного Папы, Джирелла только и думала о своем безрассудном прегрешении, совершенном на крыше монастыря. Должно быть, она ужасно смутила своего дядю, раз он велел ей приехать аж в саму столицу. И она заслуживала любого наказания, которое он посчитает назначить. Вплоть до лишения жизни.
Она не боялась дядиного решения, даже одобряла его. Поэтому, прежде чем сесть в карету, которая должна была доставить ее прямо к Гласу Всематери, под подрясник Джирелла тайком надела власяницу и так туго стянула на шее четки, что каждый вздох был мукой. И ни разу, за всю долгую поездку, не сняла первое, или не ослабила второе, каждый день предпочтя преодолевать в страданиях. И неустанно молилась, и плакала, только не за себя, а за Пастыря Самота, чья родная племянница отвергла путь праведности и попыталась сговориться с врагом всего смертного (исключительно под влиянием сверстниц, и тем не менее).
Однако, когда они взъехали на последний гребень Черных Каскадов и прибыли в Диадему — столицу Самота и сердце Багряной Империи, вместо того, чтобы заковать в колодки на потеху публике, после чего распять, папская стража препроводила ее в обставленный со вкусом кабинет. Палаты Черного Папы размещались в самых верхних ярусах замка Диадемы, который, в свою очередь, угнездился в стенах мертвого вулкана, баюкавшего в своем жерле город. И прежде чем попасть в это изысканное святилище, представлявшее собой нагромождение дубовых книжных полок и теплый очаг, пришлось подняться по бесконечному количеству ступенек, что для девушки, чей ошейник сдавливал горло, а власяница царапала тело, оказалось поистине мучительным испытанием.
Джирелла всегда представляла себе Папу Шанату объятым светом Падшей Матери, с размытыми чертами лица — ибо ни один смертный грешник не имел права смотреть прямо в лицо самой всемилости. Когда стража возвестила о ее приходе и проводила в кабинет, после чего удалилась, закрыв за собой дверь, никакого лучезарного образа в божественном гневе ее глазам не предстало. За роскошно накрытым столом сидел старец с добрыми глазами. Он поднялся, и замершая на пороге Джирелла тревожно подумала о туго стянутых четках, силясь отдышаться.
Вместо сияющей мантии и шапки высотой со шпиль, на нем был домашний парчовый халат, отделанный соболиным мехом. Темная борода и тонзура были пронизаны серебристыми нитями, придавая ему обезоруживающий вид смертного. Его тапочки плавно проскользили по угракарскому ковру, и Джирелла пала на колени. На мать он был похож не так чтобы очень, но вот когда улыбнулся, повеяло знакомым теплом. Сквозь слезы его морщины казались глубже. Джирелла опустила глаза, и дядя погладил ее по головке так, будто она была самой драгоценной его гончей. Это стало счастливейшим событием в нелегкой жизни Джиреллы, а когда она приложилась губами к черному опалу кольца — испытала такую любовь, о существовании которой даже не подозревала.
Читать дальше

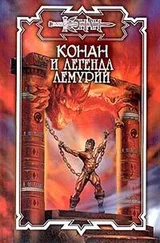

![Мак Рейнольдс - Божественная сила [Недремлющее око. Пионер космоса. Божественная сила ]](/books/101707/mak-rejnolds-bozhestvennaya-sila-nedremlyuchee-oko-thumb.webp)

![Джесс Кидд - Смерть в стекле [litres]](/books/399548/dzhess-kidd-smert-v-stekle-litres-thumb.webp)
![Джесс Буллингтон - Печальная история братьев Гроссбарт [litres]](/books/429035/dzhess-bullington-pechalnaya-istoriya-bratev-grossba-thumb.webp)