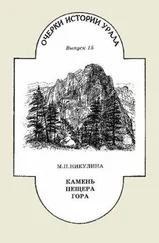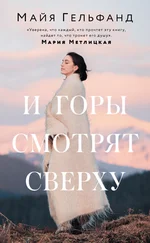— Я нашла их.
— Что ж тогда не принесла! Тебя не поймешь…
— У нас говорят — ягоды эти выросли из крови Златокудрого. Даже вымазаться ими — не к добру…
— А девчонки сказали, если их сок незаметно подмешать в питье мужчине, он за тобой будет ходить, как привязанный…
— Ты бы хотела, чтобы мужчина в твое питье этих ягод подбросил?
— У мужчин на это ума не хватит! Где им…
— Ты-то откуда знаешь?
— Мама говорила. А если ты никому на свете не веришь, можешь сама убедиться. Уйдешь из мадана и проверишь, так это или не так. Хотя… Теперь-то ты, наверное, передумала насчет обета?
— Нет.
…Годы шли, но тоска не проходила, затаившись на самом донышке души. В хранилище, беря пучки горных трав, Эйки глотала слезы, вдыхая пряный запах, а ночью, свернувшись калачиком под одеялом, думала об отце: вот он приходит из леса, и никто не встречает его. Один сидит он в пустом доме, сгорбившись у очага, и мерещатся ему в пламени вспыхивающие золотом волосы…
Отец, я вернусь к тебе! Я вернусь! Это была ее молитва. Ее обет.
На девятый год пребывания в мадане у Эйки с товарками появилась новая обязанность: ежевечерне, едва внешние ворота закрывались, шли они с пучками травы килин окуривать обитель. Впереди шествовали факельщицы, но запаливали траву от особого огня, который несли следом в жаровне. Переносная жаровня была довольно тяжелой, и охотниц таскать ее по всему мадану не находилось, однако Эйки с Дили, приноровившись к этому занятию, полюбили его: идешь далеко позади всех, никто не подслушивает твои разговоры, а если девчонки прибегут запалить новый пучок, всегда успеешь или замолчать, или переменить тему.
Мирное течение обходов было нарушено только раз — после того, как одна из младших учениц, запертая за неповиновение в колодец, всполошила всю обитель. Провинившиеся обычно вели себя тихо, чтобы не продлить время своего заточения, но она, как рассказывали, визжала, бросалась на дверь, а прибежавшим на шум прислужницам кричала, что видит храм, объятый пламенем. Много дней подряд мадан гудел, как растревоженный улей, а виновница всеобщего переполоха отлеживалась в доме травниц, поивших ее успокаивающими отварами. Никого из учениц к ней близко не подпускали, и слухов с каждым днем становилось все больше. Вместо килина обитель теперь окуривали травой тэмэх, которая, как считалось, была более действенной. Дили от нее чихала, страдальчески морща нос:
— Ох, Белоликая, когда это кончится… Как ты думаешь, она и вправду что-то видела?
— Не знаю.
— Вот всегда ты так! О чем тебя ни спроси, все «не знаю» да «не знаю». А кто знает? Говорили, что одной из гадальщиц приснилось, что наша обитель парит в небе.
— Это которой?
— Да она умерла давно.
— А-а…
— А что: «А-а»? Думаешь, раз человек умер, так уже и снам его верить нельзя?
— Да, может, и не было никакого сна. У нее ведь теперь не спросишь.
— Нет, это совершенно точно. Мне рассказывали… Приснилось ей в колодце, что она сидит среди ветвей…
— Гадальщица?
— И нечего смеяться! Ясно, что не сама гадальщица, а ее душа…
— Ну, понятно, раз она умерла…
— Так ведь это ей при жизни снилось! Но если ты будешь смеяться, я рассказывать не буду… — Дили обиженно насупилась, и Эйки примирительно сказала:
— Хорошо, хорошо… Что дальше-то было?
— Дальше… Вот, значит, сидит она, сидит, и ничего вокруг не узнает. То есть место знакомое, а обители нашей нет. На земле нет, а в небе есть. Вот и что такой сон может означать?
— А как она сама его толковала?
— Кто?
— Та гадальщица.
Дили пожала плечами.
— Ну и не надо голову ломать.
— Эйки, а как понять, вещий сон или пустой? Нам говорили: те сны, что снятся в колодце, всегда сбываются. Но мне там совсем ничего не приснилось, а тебе чушь какая-то…
Тут раздался треск, уголек, отскочив, обжег Дили руку, она, вскрикнув, шарахнулась в сторону, и Эйки стоило немалых усилий удержать в одиночку неудобную ношу.
На Дили лица не было:
— Это ведь дурной знак!
— Нельзя же во всем подряд знаки видеть.
— Как это во всем подряд! — Дили задохнулась от возмущения, а к ним уже бежали испуганные девчонки:
— Что тут у вас?
Дили трясла рукой, дуя на ожог.
— Уголек отскочил.
Подбежавшие превратились в немые изваяния. Кто-то прошептал:
— Ну вот, началось. Ждите теперь…
И сразу загалдели все разом:
— Она видела, что храм горит! А теперь вот это… Надо жрицам сказать…
Иные горячие головы готовы были тут же сорваться с места, но Эйки проявила здравомыслие:
Читать дальше