Варди не хотел изничтожить идею эволюции: он хотел отмотать сам ее факт. А за эволюцией – этим ключом, клином, истоком, – последует и все остальное: пресно вульгарное, условное, слабое безбожие, за которым не стояло абсолютно ничего, кроме – как это ни раздражало – правды.
И Варди убедился – и пытался убедить город и историю, – что в этих-то созерцаемых экспонатах, в этих поблекших животных в старинном консерванте и явилась на свет эволюция. Чем была бы эволюция, не заметь ее люди? Ничем. Даже не деталькой. Разглядев ее, Дарвин сделал так, что она есть – и была всегда. Эти штучки с «Бигля» раздуты.
Варди сжег бы их до небыльности, размотал бы сплетенные Дарвином нити, испепелил бы факты. Вот стратегия Варди, чтобы помочь своему нерожденному богу – карающему и милосердному буквалистскому богу, о котором он читал. Он не мог сделать так, что тот победит, – битва уже была проиграна, – но он мог сделать так, что тот победил . Жечь эволюцию, пока ее никогда и не было, – и перезагруженная Вселенная и населяющие ее люди могут оказаться созданными, как всегда и полагалось.
Эта ночь стала той самой ночью только потому, что такой ее назначили Билли и его товарищи, когда спровоцировали войну конца, эти хаос и кризис. Так что Варди знал, когда действовать.
– Не получится, – снова сказал Билли, но сам чувствовал надрыв времени и неба, и казалось, что очень даже получится. Чертова Вселенная пластична. Варди занес «коктейль Молотова».
– Смотри, – сказал Варди. – Бутылочная магия. – Наполненная флогистоном, который он принудил сделать Коула с помощью его неискушенной дочери, угрожая ее жизни. Горючее тахионное пламя. Оно ревело с нарастанием, освещало лицо Варди.
Он поднес его ближе, и свечение озарило маринованных лягушек в склянке. Они шевельнулись. Они съежились в тепле, опаляющем время, вжали лапки в тушки. Стали мизерными – нескладными длиннохвостыми безногими головастиками. Он держал пламя так, что оно лизало стекло их склянки, и через секунду нагревания та разлетелась на песок и расплескала головастиков. Падая, они отматывались, лишались бытия и съеживались, и не были никогда, и на пол упало ничто – ничего не упало.
Варди повернулся к полке с экспонатами Дарвина и поднял руку.
Билли встал на ноги. В голове было только одно: «Не так». Он попытается разлить огонь. Возможно, это обратит жизненный цикл прочного пола, сепарирует резину, вернет химикаты к форме элементов. Но его руки скованы за спиной, а сам он слишком, слишком далеко.
– Нет! – прохрипел окровавленный Билли.
Тени, пролитые пламенем, плясали на этикетках, надписанных Чарльзом Дарвином. Билли распластался, как камбала. Хекнув от религиозной радости, Варди швырнул времяопасный снаряд.
Тот летел и вращался на лету. У Билли были скованы руки. Но в этом помещении не было недостатка рук.
Воскресший экспонат-архитевтис выстрелил своими длинными охотничьими конечностями через весь зал. Последняя охота. Он поймал бутылку. Выхватил из воздуха.
Варди уставился. Он возопил во гневе.
Временной огонь коснулся шкуры архитевтиса и обжег. Вторая охотничья лапа зомби-кальмара, тяжелая от формалина, захлестнулась вокруг талии Варди со звуком «хлобысть». Обвила. Метнула бутылку себе в рот. Варди взвыл, когда и короткие конечности приняли его в объятья.
Варди кричал. Временной огонь ревел и распространялся. Спрут уменьшался. Руки и ноги Варди укорачивались.
Спрут смотрел на Билли. Тот так и не смог облечь в точные слова, что было в том взгляде, в тех внезапных глазах, что именно ему транслировал бутилированный экспонат, – но это было братство. Не служение. Он не подчинялся , а делал то, что делал, сознательно – сделал подарок и взглянул на прощанье.
Временной огонь уменьшил его еще больше, счистил мертвизну со шкуры, разгладил. Самоотверженное самолюбие. Кем были бы он и его собратья без эволюции? Собратья этого существа – не глубоководные боги: оно жертвовало собой не ради кракенов, но ради видов – всех экспонатов и экземпляров всех форм и размеров, этих заспиртованных богов науки.
Аквариум ревел от огня. Плоть сгорала. Последняя сумятица сопротивления. В силуэтах, в свечении Билли видел, как ребенок кричит от взрослой ярости на маленького спрута длиной с руку, который его оплел. Оба горели. Затем оба, все еще в борьбе, стали жаркими эмбрионами, спутались и застыли в гротескном протоплазменном перемирии – и пропали дотла.
Читать дальше
![Чайна Мьевилль Кракен [litres] обложка книги](/books/400535/chajna-mevill-kraken-litres-cover.webp)

![Чайна Мьевилль - Октябрь [litres]](/books/34623/chajna-mevill-oktyabr-litres-thumb.webp)


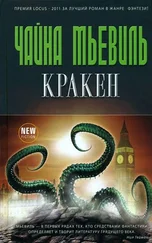


![Чайна Мьевилль - Посольский город [litres]](/books/398418/chajna-mevill-posolskij-gorod-litres-thumb.webp)
![Чайна Мьевилль - Город и город [litres]](/books/404383/chajna-mevill-gorod-i-gorod-litres-thumb.webp)
![Чайна Мьевилль - Нью-Кробюзон [Трилогия]](/books/406363/chajna-mevill-nyu-krobyuzon-trilogiya-thumb.webp)
![Чайна Мьевилль - Последние дни Нового Парижа [litres]](/books/415113/chajna-mevill-poslednie-dni-novogo-parizha-litres-thumb.webp)
