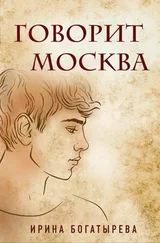Смотри. Ищи. Узнай. Среди всех узнай.
Стало страшно и горько. Больно. И не помочь ничем. Не спасти. И не закрыть – ничем не закрыть эту брешь. Сплошное отчаяние. Удушье. Уже подступает к горлу. Тошнит, мутит до обморока. Зубы сжались до судороги. Разжимая их чуть ли не с хрустом, чувствуя, что уже глотает, уже тонет, хлебает, смог вымолвить одно только слово:
Прости.
Руки не держали. Смысла не было – разжал пальцы, и понесло, забурлило, закрутило, перевернуло, ударило обо что-то сбоку, с другого, в плечи, в ноги, и, уже теряя сознание, на грани, его услышал звук – высокий и чистый, небесной чистоты – рог.
Белая Итиль трубит, выезжая на белой своей лосихе – не то увидел, не то догадался, не то представил на грани сознания. Не то вспомнил, как говорила ами: в последние времена выйдет белая Итиль, затрубит в абидазь – скотий рог. И поднимутся воды. Поднимутся звери. И сосчитают все людские грехи. Не нам судить их, а им – нас.
И загудела, и закрутилась, и понеслась вокруг – вода: холодная, ледяная, нутряная. Снесла одним потоком и устремилась дальше, смывая грязь. В ней – жизнь, в ней – благодать, в ней плещутся древние ящеры, плывут задом наперёд каракатицы, мимо медленно проползают гигантские улитки, и ему смешно, ему хочется их потрогать, но вместо этого, подхваченный собственной радостью, переворачивается в воде и плывёт сам, вместе с потоком – быстрее, быстрее, вместе с ними со всеми: несутся стаи рыб, мелькают чьи-то пасти, острые зубы, проносятся, как торпеды, обтекаемые, огромные тела, – все куда-то, куда несёт их потоком.
А что там? Дамба? Стена?
Бух! – врезаются со всего лёта, огромные, обтекаемые. Нет никакой стены! Ба-бах! – следом за ними все остальные. Развернуться, отплыть и снова, все вместе: бух! И опять: ба-бах!
Да! Да! Трещит, проламывается! И тут же – все врассыпную: рыбы, ящеры, – бурлит, стремится, несётся вперёд вода. Вода, вода, по набережной, над дамбой, по Главному – быстро, быстро, кипит, бурлит – вверх, вверх, в город, где не бывала река никогда.
Не ждали?!
Гудит, ревёт, ломаются заборы, трещат стены, звенят стёкла – Нижний вал, Средний, Подгорье. Заревело – сирена над городом. Взрывы, треск. Плывут сорвавшиеся лодки, двери. Кто-то барахтается, кто-то цепляется. Сирена воет. Но выше её, громче её, яростнее – чистый, звонки рог: белая Итиль на белой лосихе, на верной своей Звёздочке въехала в город. Никогда не была здесь. Никогда не видела. Всю жизнь – у подножия, под яром. Так вот хоть теперь.
Лопнуло. Прорвало. Чистит. Сносит.
Хорошо. Хорошо. Думал так и радовался. Но уже ничего не понимал. Уже ничего не чуял. Как под воду, уходил в забытье. И только одно в голове стучало: ты, ты, ты! Да, это всё тоже ты!
В третий раз очнулся – сам сухой, и вокруг сухо. Только белёсо и зябко. Сел, осмотрелся, с трудом соображая, что за белое, молочное, и он сам белый, даже одежда.
А это туман. Туман и иней. И молоко. Все в стоячем, густом молоке. Скрылись за туманом деревья. Хлопнул в ладоши по старой привычке – звук вернулся глухой, близкий. Вата. Так и есть: вата кругом.
Что же ты, Алёша, спишь и не проснёшься…
Вдруг услышал что-то, а что – неясно. Даже откуда, невозможно понять. Заозирался. Звук снова. Кто-то шёл, шоркая, подтаскивая ногу.
Поднялся. Закрутился на месте, ожидая со всех сторон. И увидел: нарисовалась в тумане тёмная фигура, проступила, оформилась – и вышел старик, опираясь на палку, вторая рука на пояснице. Глаза без очков, в сети морщин, смотрят слепо. Но он-то знает – видят всё, что ему надо.
– Ати? – выдохнул и не поверил себе. – Дед?
– Уф, еле дошёл до тебя. – Он сел, пень будто сам под него подвернулся. – Край неблизкий, чать. Ну, что ты, Ромашка? Плохо, смотрю.
– Так себе, – отвечал, а сам улыбался, до ушей улыбался самой глупой и счастливой улыбкой: не видел же его сто лет и так, оказывается, скучал, такая, оказывается, без него пустота.
И вот: сидит, опираясь на палку, смотрит, будто не видит, и непонятно, что видит на самом-то деле почти слепыми своими глазами. А всё же сделаешь при нём что не так – сразу скажет, язвительно плюнет или тюркнет палкой – не балуй, учись!
Да, так всё и было. Он всё это помнил, хоть и прошло сто лет. Как уехал, с тех пор как уехал. И ведь сначала не скучал – казалось, зачем скучать, он о нём и не думал, жил своей жизнью. И как потом оно покатило, и закрутило, и были Штаты, и было не до того… А потом мать позвонила и сказала…
– Но ати! Мне сказали, ты умер!
– Глупости не болтай, – оборвал раздражённо. – Не язык, а гнилушка. Сказали ему… Вот так бы и выдрал как сидорову козу.
Читать дальше
![Ирина Богатырева Ведяна [litres] обложка книги](/books/398330/irina-bogatyreva-vedyana-litres-cover.webp)







![Ирина Богатырева - Говорит Москва [litres]](/books/396418/irina-bogatyreva-govorit-moskva-litres-thumb.webp)
![Ирина Богатырева - Белая Согра [litres]](/books/396714/irina-bogatyreva-belaya-sogra-litres-thumb.webp)