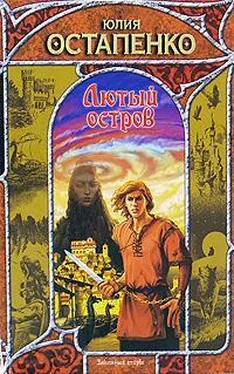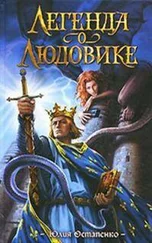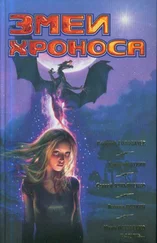Иволга теперь стала ворожить почти так же часто, как сама Медовица. Не раз заставал ее Орешник шепчущей над товаром, сложенным для погрузки и отправки на рынок, над молодой коровой, купленной на торгу, а то и над только что сшитой расписной сорочкой. И товар тогда разлетался в два дня по лучшей цене, корова была здоровенькой и по осени приносила теленка, а сорочка носилась, будто из железа сплавленная – не линяла и не рвалась. И невольно ловил себя Орешник на том, что всякий раз, когда удается Иволге нехитрое покамест колдовство, сердце его за нее радуется, гордится ею, как желало бы гордиться собственными детьми – да не срослось. И при мысли этой делалось Орешнику разом и радостно – за Иволгу, и горестно – за все, что в жизни его было неладно и что он исправить не умел. И мешались в нем эта радость с печалью, будто красная и черная нитки в Медовицыной вышивке.
Как-то раз проснулся он посреди ночи с чувством, будто не один. Стояло полнолуние, Медовица ушла в рощу искать траву кочедыжник, так что пустовала нынче его постель. Открыв глаза в темноте, Орешник замер, ловя в полумраке чужое дыхание. И услышал вдруг запах – такой знакомый, что разом его опрокинуло в давние годы, давно минувшие...
Пахло горячим воском, воском и клевером.
– Уйди, печаль, пропади, печаль. Сгинь, печаль, в тишь да марево, в омут озера водяным на дно, в даль далекую, за седьмой порог. Уходи, печаль, прочь от моего батюшки, отпусти его лоб и грудь, дай ему вздохнуть, улыбнуться дай. Пропади и сгинь, отпусти его, уступи его светлой радости. Слово мое крепко.
Так шептала маленькая Иволга, склонясь над постелью Орешника, а умолкнув, брызнула на него теплой водой и поцеловала в лоб. И ушла, тихо прикрыв за собою дверь, унося трепещущий на сквозняке огонек свечи.
А Орешник долго лежал еще, после того как стихли ее шаги, и смотрел на полную луну за высоким окном.
Там, где десять лет пролетают сном, двадцать лет пробегают вздохом – обернуться не успеешь.
Вот тот дом, что недавно еще мнился полною чашей – лучше некуда. А теперь этот дом едва не вдвое больше прежнего, оброс пристройками и галереями, как старый дуб к осени обрастает грибами. Вот те ворота, в которые богатейший люд Кремена заходить не брезговал – а теперь, бывает, сам кнеж кременский Стужа хаживает на званый обед. Постарел кременский кнеж, согнулся, ходит – на клюку опирается, посмеивается в усы – эй, говорит, добрый хозяин, я тебя во-от такого помню еще, до плеча мне не доходил, молоко материнское с верхней губы обтирал. А нынче, глянь – самому уже внуков нянчить впору...
Вот он, двор, где вчера еще топотали босые детские пятки, смех звенел и пыль стояла столбом от драк между резвыми ребятишками – ничего этого не слыхать больше, выросли мальцы. Младший уже отцу в делах помогает, средний, удавшийся самым смышленым, уехал в стольный город Янтарь – учиться в тамошней школе тончайшим хитростям торгового дела. А старшему, Желану, в это лето двадцатый год минул – и не парень вырос, одно загляденье. Высокий, статный, с густыми кудрями того же медового цвета, что и у матери, да с отцовскими голубыми глазами – красивей парня во всем Кремене нет, и не диво, ведь мать его была двадцать лет тому первой в городе красавицей. Она и теперь была чудо как хороша – а все ж не первая.
Первой красавицей Кремена стала теперь приемная дочь ее, Иволга.
Те, кто помнили, как взяли ее Медовица с Орешником в дом семилеткою, дивились – как из нескладной, угловатой, угрюмой девочки сумела вырасти этакая лебедушка. Миновали ее непутевые годы, когда не понять, то ли девка собой дурна уродилась, то ли хороша. Как пошла семнадцатая весна Иволги, распустилась она, словно подснежник, до первого солнышка прятавшийся под снегами. И тогда видно стало то, о чем раньше подозревали только: не кмелтских она кровей. Лицо у нее было тонкое, длинное, такое белое, какого у розовощеких да круглолицых кмелтских девок отродясь не бывало. Волосы черные-черные, будто смоль, и вьются от макушки до самых кончиков мелко-мелко, словно луковые колечки. И вся она тоненькая, как хворостиночка, пальцем шибани такую – пополам переломится. Да только казалось это – не раз видали, как тащила девка от колодца тяжелое коромысло, будто дворовая. Никакой работой она не брезговала, напротив, любила тяжелый труд, сама тянулась к нему, а люди дивились – как это Орешник Мхович позволяет своей названной дочери за тяжелую работу браться.
Орешник и впрямь позволял. Иволга любила работу, любую работу, какую только могла делать, – будь то хоть тонкое рукоделие, которому ее, кроме прочего, обучила Медовица, хоть кухонные хлопоты, которыми ее Медовица первое время наказывала, а потом перестала, потому что поняла: для странной этой девочки самая черная работа отраднее, чем темное учение в закрытом от чужого взгляда погребе. Но и этого учения Иволга тоже не чуралась. Лишь они трое – она, Медовица да Орешник – знали, кому обязан Орешников дом невиданному богатству, нажитому за минувшие годы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу