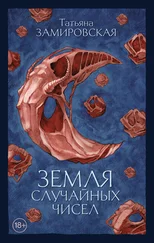Дон насторожился и нахмурился. Никто не смел таким тоном говорить о его Большом. И обзывать. Одно дело — прозвище, но это — явная дразнилка. В чем дело? Придется применить родительскую власть. Досадно. Противно. Но надо.
— Откуда ты знаешь Лягушонка, сын мой ? И почему ты так его называешь?
— Так это мой братец младшенький! — удивился Дэрри. Дон тоже: «Принуждения он, похоже, даже и не заметил — вот так фокус! Мальчик, я тебе действительно нравлюсь? Забавно…» — Я его с детства так дразню! А… ой, блин! Ты не знал, да?
— Ты хочешь сказать, что мой Большой — на-фэйери Лив? — медленно сказал Дон. Что ж, это многое объясняло, в частности, неудовольствие, с каким Квали принял прозвище.
— Слушай, только не болтай, ладно? — спохватился Дэрри — Я тебя просто уже записал в члены семьи — вот и разболтался, видимо. А так этого никто знать не должен, ему папенька такое условие поставил. Чтобы — как все. Надеялся, что Квакля сдастся и обратно прибежит! Ха! Не на того напал! — Дэрри говорил с явной гордостью за брата. — Ты не думай, мы друг друга любим, хоть и дразнимся. Он меня — Дырон от бублика, я его Кваклей. И… Раз уж ты там рядом — ты там присмотри за ним, ладно? Я… беспокойно мне. Он же безбашенный, еще почище меня!
— Правильно сказано: «Корни их сплетены, но не видят они стоящих рядом»! Как тесен мир! — Донни изумленно покрутил головой. — Тебе таки удалось меня удивить, дружок! Я буду за ним присматривать, обещаю, — кивнул он и ушел.
Брюнетка сидела на ковре, рассматривая свое тело. «Вспоминай, что чувствовал» — ха! Забудешь тут, как же! Пойти, что ли, погулять? В город нельзя, а по Дворцу? Она так, немножко… Потренируется… Только вот где бы платье взять? А то штаны теперь явно малы, уже трещат, а верх в плечах велик, и на груди не сходится! Эх! Да ладно, что-нибудь придумаем! Вот у нас тут простыня, к примеру, имеется… И, если сделать дырку для головы, а вот этим шнурком подвязать вместо пояса…
Азбучные истины.
Лейн Тимон дэ Форнелл был полукровкой. Его мать, смуглая черноволосая хохотушка с родинкой над верхней губой, Кандемина дэ Ризон, устроилась горничной в усадьбу Форнелл после смерти своей мамы — нужно было устраивать будущее своей сестры, болезнь матери съела все деньги и, соответственно, надежды. Как Тори Лейна, трехтысячелетнего на-райе Форнелл угораздило в нее влюбиться — кто бы знал! Они поженились, через год родился Тимон. От отца он унаследовал роскошные светлые волосы, густые и вьющиеся, от матери веселые карие глаза. К семи годам из него получился довольно проказливый и хулиганистый, но незлой и дружелюбный мальчик. В обласканном и ухоженном саду усадьбы ему было нестерпимо скучно, и при каждой возможности он сбегал в село за полем. Поселковые ребята страшно уважали его за способность залечивать ссадины, синяки и последствия родительских воспитательных мероприятий наложением рук — в мальчишеской жизни вещь немаловажная.
— Эх, — обычно говорил Большой Колин, их заводила, — Если б ты еще и штаны мог так же залечивать — цены бы тебе не было!
С десяти лет Тимон пошел в первый класс местной поселковой школы. Ребята были все свои, знакомые, жизнь была прекрасна.
И оставалась такой еще три года. Когда ему исполнилось тринадцать, Мина, его мать, тяжело заболела. Тимон потом узнавал об этой болезни — это не лечилось, отцу сразу должны были это сказать. Скорей всего и сказали, но он упрямо продолжал таскать в дом одного целителя за другим. Все они, как один, пожимали плечами и советовали подать прошение на поднятие. На просьбу «сделать хоть что-нибудь» накладывали заклятье, оставляли несколько печатей с аналогичным действием и уходили, явно недоумевая — странный этот на-райе! На некоторое время маме становилось лучше, она начинала что-то есть, веселела. Ненадолго. Еще до того, как печати кончались, ей опять становилось плохо, последние уже почти не действовали. Появлялся новый целитель, просматривал предыдущие записи — и все повторялось сначала. К концу года отец извелся, потускнел. Наконец Мина, исхудавшая в щепку и уже не встававшая с постели, дала свое согласие на поднятие во Жнеце, подали прошение, стали ждать. Прошел месяц, второй, третий. Тимона перестали пускать к маме. Он нашел выход: он забирался в смежную комнату через окно и часами сидел под дверью — слушал. Иногда он слышал ее голос, слабый, шелестящий. Иногда отец ей пел — на непонятном языке, что-то бодрое, Тимону даже весело становилось — но ненадолго. Как только отец замолкал, опять приходил страх за маму. Тимон много плакал там, под дверью, зажимая руками рот, чтобы никто не узнал, что он там сидит, и не выгнал. Это было важно — чтобы не выгнали: только здесь он теперь мог услышать мамин голос, пусть слабый, но мамин.
Читать дальше


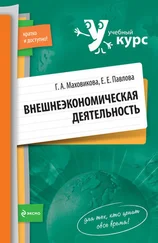
![Татьяна Замировская - Земля случайных чисел [сборник litres]](/books/407830/tatyana-zamirovskaya-zemlya-sluchajnyh-chisel-sbornik-thumb.webp)