Осчастливленный визитом Созоев дул в чашку.
— Как ваши дела, Саша?
— Вроде бы неплохо, — сказал Игнациус.
— Как здоровье?
— Дня три еще проживу.
— Как ребенок?
— Ребенок — парализованный.
— А жена?
— Утверждают, что — делириум тременс.
— Хе-хе-хе… Вы все шутите, Саша…
Но Игнациус отнюдь не шутил. Зима в тот год выдалась голая и сухая, какие бывают раз в десятилетие. Очень рано ударили морозы, стиснув небо светлеющей синевой. Почернела сырая листва в садах. Остекленели реки. Ночью свистал ветер по мерзлым щелям и царапала камень редкая крупяная пороша. В конце ноября пропал Грун. Он никого не предупредил и не оставил записки. Просто исчез, без следа растворившись в толчее четырехмиллионного муравейника. Это была катастрофа. Потому что защита его была назначена на январь. Все уже было готово. И документы оформлены. Жека дважды, как цуцик, мотался к нему домой. Выяснилось, что Грун переехал, и новые жильцы не знают — куда. Там был сложный многоступенчатый жуткий обмен. Больше его никто не видел. Через две недели по почте пришло заявление об увольнении. Администрация взвыла. У Созоева был сердечный приступ. На кафедре многозначительно переглядывались. Игнациус, как больной, равнодушно и вяло бродил по ободранным коридорам, натыкался на шумных студентов, отвечал невпопад, неумело закуривал чужие вонючие сигареты, — все валилось из рук: в узких стиснутых приборами кабинетах, в невозможных курилках и в моечных закутках под усмешки, под звяканье скальпелей — решалась его судьба. В декабре начались снегопады и роскошной жаркой периной укутали дворовую наготу. Будто гейзеры, вспучились яркие сугробы. Побелевшие улицы воспрянули чистотой. Что-то изменилось в мире, сдвинулось на волос. Смущая слабые души, прошел ученый совет. Игнациуса сдержанно поздравляли и жали руку. Рогощук — улыбался. Мамакан — благосклонно кивал. Обнаружились силы, зовущие в сладкую пустоту. Между тем морозы слабели. Очищалось к полудню громадное солнце, и загорался над крышами огненный рыжий туман. Вдруг затенькали тоненькие сосульки. Жизнь была удивительна.
— Андрей Борисович, — напрямик сказал Игнациус. — Вы меня срочно вызвали час назад. Я же не мальчик. И давайте не будем обходиться намеками.
Созоев замигал, как пулемет.
— Я?!. Вас?!. Вызвал?!. Не может быть!!. — Обернулся к Марьяне, которая хищно сощурилась и повела крючковатым носом. — Марочка, принеси нам… м-м-м… что-нибудь. — А когда Марьяна, буркнув в усатую губу, недовольно вышла, привалился к столу, насколько позволял полный живот. — Никогда не посвящайте жену в свои дела, Саша. Никогда, никогда, никогда! — И откинулся очень довольный собою. — Значит, я вас вызывал? Интересно. А вы, Саша, не знаете, зачем я вас вызывал?
Игнациус сломал ноготь о подлокотник.
— Чтобы исполнить «Гоп со смыком». По-видимому. На два голоса.
Ему страшно хотелось запустить печеньем в мягкое улыбчивое пухлощекое лицо напротив. А потом взять что-нибудь потяжелее, типа лома, и вдребезги сокрушить лаковые дверцы шкафов, за которыми прятались журналы прошлого века, смести торжественные картины со стен, порвать фотографии, перевернуть стол и на мелкие кусочки раздробить рогатую малахитовую чашу в углу.
— Правильно! — воскликнул Созоев, избегая смотреть ему в глаза, белотелым мизинцем вылавливая из чашки чаинку. — Отлично, что вы вспомнили, Саша. А у вас, Саша, талант — я давно замечаю…
Три морщины перечеркнули его гладкий лоб.
— Андрей Борисович, — подавив раздражение, сказал Игнациус. — Ведь мы заранее обо всем условились. Ну, давайте выбросим эту диссертацию к чертовой матери. Ну, давайте выбросим и навсегда забудем ее.
Он готов был немедленно сделать это.
— Превосходное исследование, — по инерции протянул Созоев. И вдруг поднял совиные толстые круглые веки, покрытые желтизной. И глаза его как-то тревожно блеснули. — Понимаете, Саша, вчера вечером я получил письмо…
Игнациус вздрогнул.
Стояли жесткие ветреные пустые дни. Окна зарастали ледяной коркой. Игнациус поднимался в шесть утра, выцарапанный из сна жестяными судорогами будильника. Шлепал босой на кухню и, не открывая воспаленных глаз, с отвращением жевал что-то — липкое, упругое, резиновое. Потом возвращался в комнату и зажигал электричество. Резкий ламповый круг замыкал собою весь мир. Время останавливалось за черными стеклами. Записи, вырезки из реферативных журналов, протокол наблюдений, мельчайший академический шрифт, сведение в целое, торчат хвосты, рассыпающийся лабораторный дневник, контроль отсутствует, дикие иероглифы картотеки, контроль найден, сведение в целое, выпал абзац, клей и ножницы, брякающая машинка, две страницы, тезис Шафрана — не соответствует, картотека, журналы, назад — в предисловие, клей и ножницы, сведение в целое. Свет желтой пленкой залепливал ему ресницы. От напряженной многосуточной позы скручивались мышцы в спине. Он ложился за полночь, когда Валентина уже дышала в подушку. Еще минут пятнадцать не мог заснуть: бешено сталкивались выгнутые шелестящие строчки. Ему казалось, что он муравей, грызущий горный массив. Он натыкался на свое отражение между штор: бледное зеленоватое лицо с искусственными волосами. Лицо неудачника. Человек с таким лицом никогда не сделает ничего толкового. Не стоит и пытаться. Тем не менее, каждый вечер ставил будильник ровно на шесть утра. Отступать было некуда. В середине месяца неожиданно посветлело. Засияли строгие рамы. Проникающий серебряный блеск озарил всю комнату. Игнациус как будто очнулся. Была середина дня. Лампа горела тускло. Валентина квакала о чем-то над самым ухом. Он поднял голову и увидел, что из форточки вырывается и мгновенно тает над батареями — крупный веселый снег. Тогда он собрал все написанное в серую папку и накрепко завязал тесемки. Он сделал все, что мог, и прибавить сюда было нечего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
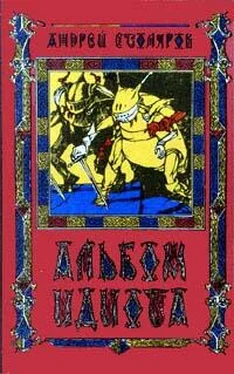


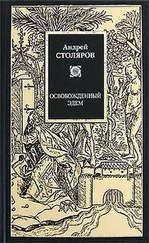




![Андрей Столяров - Боги осенью [Авторский сборник]](/books/395773/andrej-stolyarov-bogi-osenyu-avtorskij-sbornik-thumb.webp)
