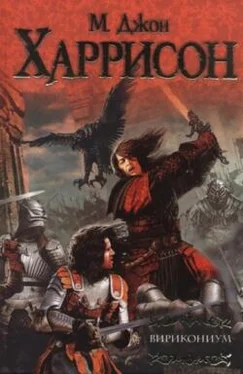Я поселился в одном из высоких серых зданий, которые выстроились в линию на высотах над Мюннедом».
И конечно, вам не удастся просто взять и полететь туда.
Вскоре после поездки в Йорк я устроился на работу в городе, в кафе для туристов. Кафе называлось «Врата» и существовало при книжном магазине. Идея заключалась в следующем: вы можете зайти, пройтись вдоль полок, полистать книгу, а заодно выпить чашечку кофе. У нас было пять или шесть столов, покрытых синими скатертями, весьма ограниченное меню, в котором числилась только самопальная выпечка, и картины местных художников на стенах. В сырую погоду в середине дня, когда тринадцать клиентов обжирались печеньем и информацией на деревянных стульях, кафе казалось переполненным, а их пальто в углу повышали влажность в помещении. Но чаще кафе пустовало.
Однажды к нам зашли мужчина и женщина. Они сели неподалеку друг от друга, но за разные столики. И начали таращиться по сторонам, словно здесь все для них в новинку.
Мужчина был в коротком габардиновом жакете на молнии, одетом поверх зеленого вязаного пуловера и розовой рубашки. Из-за коричневой фетровой шляпы его голова казалась маленькой, а подбородок — очень острым. Явно немолодой, он обладал лицом без возраста: его гладкую загорелую кожу покрывали потеки грязи, что делало его похожим на маленького мальчика, измученного недавней болезнью, которая заодно наградила его морщинками вокруг глаз. Ему могло быть от тридцати до шестидесяти. Для одного он выглядел слишком старым, для другого — слишком молодым… В общем, с ним явно было что-то не так. Его взгляд быстро перемещался с предмета на предмет, словно он никогда не видел ни настенных календарей с изображением центра Галифакса, ни кресел, не тарелок; как будто он каждую секунду удивлялся и не мог понять, как его сюда занесло.
Я представил, как в один прекрасный день он покидает одну из ферм к югу от Бакстона, где ветер носится по Северной Стаффордширской равнине, и люди в поношенной одежде неделями сидят перед сломанным телевизором, слушая, как хлопают ворота. Потом мужчина наклонился к другому столику.
— Завтра случайно не пятница? — мягко спросил он.
— Что, простите? — отозвалась женщина. — Ах, да. Конечно, пятница. Да… — И когда он добавил что-то — слишком тихо, чтобы я мог услышать, — сказала: — Нет, фруктового пирога нет. У них здесь такого не бывает… Никаких фруктовых пирогов, у них такого не бывает.
Она коснулась его одним пальцем.
— Только не здесь.
Склонив голову набок и ловко держа ложку под углом, чтобы видеть дно своей кофейной чашки, она вычерпала оттуда полурастаявший сахар. Одновременно она поглядывала на других клиентов с неким возбужденным удовлетворением, точно эскимос или папуас в старом документальном фильме — застенчиво, зорко, взглядом, который словно говорил: «вам лучше уйти», с тем равнодушием, с каким делается нечто такое, что культурные люди считают недопустимым. Операция была произведена во мгновение ока; она успела даже проглотить сахар и облизнуть ложечку. Закончив, она откинулась на спинку кресла.
— Я подожду, пока принесут еще чая, — пробормотала она. — Я подожду.
Она так и не сняла ни свое пальто в желтую и черную клетку, ни красную вязаную шапочку.
— Хотите кофе? — и видя, что мужчина пристально, с какой-то болезненной рассеянностью разглядывает пейзажи на стенах, добавила: — Эти акварели — те, что на стене… надо приглядеться, чтобы понять, что это акварели. Прелестно.
— Не хочу я никакого кофе.
— А мороженое будете?
— И мороженого не хочу, спасибо. От него в животе холодно.
— Будет лучше, если вы пойдете наверх и посмотрите телевизор. Просто посидите перед ним.
— Почему я должен смотреть телевизор? — спокойно откликнулся мужчина, отводя взгляд от картины, изображающей городской мост под дождем. — Я не хочу ни чая, ни ужина. И завтракать каждое утро тоже не хочу.
Он на миг сплел руки, уставился в пустоту. Его глаза торжествующе сияли, как у мальчишки, получившего пятерку… Потом он ни с того ни с сего начал рыться в карманах.
— Здесь нельзя курить, — торопливо заметила женщина. — То есть я сомневаюсь, что здесь можно курить. Кажется, я видела табличку «курить запрещено», потому что здесь едят. Вы же видите, здесь никто не курит.
Когда они вставали, чтобы заплатить мне, он сказал:
— Славно, когда все меняется.
Тон у него был вежливый, но голос звучал мягко и печально, как у калеки, который проснулся в полдень, не понимая, где очутился, и спрашивает медсестру, которая только что сменилась: «Уже день, верно?»;
Читать дальше