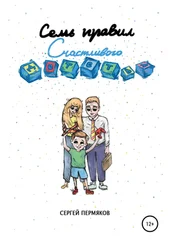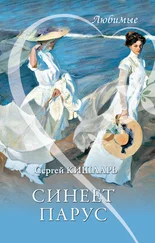– По какому праву? – возмутилась Лада.
– По законному праву, – успокоил её Портупеич. – По законному.
Пока Никита натягивал брюки, Лада с разгоряченный видом дефилировала по комнате, подтягивая сползающий с плеча плед.
– Куда вы его забираете?
– Сие является государственной тайной, мадмуазель.
– В чём его обвиняют?
– Пока ни в чём. Идёт выяснение обстоятельств и, если он ни в чём не виноват, то скоро вернется к вам.
– Позор Генеральному штабу! – не переставала возмущаться Лада. – Да вы, обычные взломщики, господа!
Рассыпанные по полу патроны иногда попадались ей под ноги и тогда она морщила лицо то ли от боли, то ли от досады и взбрыкивала так, что плед отлетал от её босой ноги.
– Увы, мадмуазель! – равнодушно отвечал Портупеич. – Немцы на днях могут быть в Петрограде. Не до сантиментов.
Похожая на развоевавшуюся греческую богиню Лада ещё долго корила незнакомцев и взывала к их революционной совести. Русые волосы рассыпались по накинутому как туника пледу, обнажённая рука блестит от пота, ноздри раздуваются от гнева.
Но незнакомцы с равнодушным видом игнорировали её красноречие, терпеливо подавая Никите рубашку, жилет, короткое двубортное пальто-бушлат – всё с плеча старшего брата Лады, который с шестнадцатого года воевал где-то на Северо-Западном фронте.
Вывели Никиту на улицу, что называется – под белы рученьки. Облачко фонарного света на набережной было заштриховано тонкими косыми струями дождя. Мокрая брусчатка отливала фонарной желтизной. Над чёрными громадами домов – ни зги.
Никита всей грудью вдохнул сырой, но такой родной питерский воздух, криво усмехнулся… Не так уж и глубока эта временная яма.
Утконос слегка подтолкнул его в спину, предлагая не задерживаться. Никита поднял воротник пальто, сутулясь под дождём шагнул из-под навеса к распахнутой дверке автомобиля, мысленно пожал плечами…
Что такое сто с лишним лет, если есть вещи, которые не меняются тысячелетиями.
Мерседес долго петлял по мокрым питерским улицам. Никита хорошо знал Питер, но несмотря на то, что город сохранил свой исторический облик, многое в нём изменилось – иногда даже хорошо знакомое здание трудно было узнать. Вдобавок ко всему предреволюционный Питер был плохо освещён, а сам Никита был взволнован своим арестом и рассеян, оттого некоторое время не мог сообразить, где находится. Потом над литой оградой набережной вдруг возник тёмный силуэт Михайловского замка, давая надёжный ориентир.
За Фонтанкой Никита снова потерялся, но вскоре узнал улицу Маяковского, которая, судя по шильдам на стенах домов тогда… – или всё-таки теперь? – называлась Надеждинской. В Сапёрном переулке автомобиль свернул в тёмную арку какого-то доходного дома, остановился во дворе у двухэтажного флигеля.
Хотя во двор цедился только скудный свет из тусклых окон, незнакомцы соблюдали странную для офицеров Генерального штаба конспирацию. Никиту перестали придерживать за локти и тихим, но непререкаемым голосом попросили держаться как можно естественней и не делать глупостей. Никита и не собирался.
В «своём» Питере он мог бы и с ментом поспорить, и гонор показать, но в этом чужом городе заниматься такими делами было стрёмно, особенно после того как возникло подозрение, что незнакомцы вовсе не те, за кого себя выдают. Да и то правда: флигель во дворе доходного дома никак не тянет на Генеральный штаб – это раз. Нездоровая таинственность – это два. Незнакомцы будто прятались от кого-то.
Почти по-дружески Утконос предложил Никите пройти в парадную флигеля. В полутёмной парадной за конторкой консьержа сидел молодой человек. Встал, по-офицерски щёлкнул каблуками, приветствуя Утконоса и Портупеича. От ведущей на второй этаж каменной лестницы свернули в боковой коридор, в конце него спустились в подвал.
Помещение, в котором закрыли Никиту, судя по всему, было обычным жилым полуподвалом, который не так давно переделали в некое подобие тюремной камеры. Во всём помещении кроме Никиты был только худощавый парнишка лет семнадцати, похоже, гимназист.
Лежал он на кровати лицом к стене. На нём были чёрные штаны и мятая тёмно-синяя гимназическая куртка или китель – фиг поймёшь, как это у них там называлось. На спинку стула наброшена светло-серая гимназическая шинель с голубыми петлицами. Поверх неё переброшен чёрный ремень с потускневшей давно не чищенной пряжкой. Синяя фуражка с поломанным лаковым козырьком висела на гвозде над кроватью.
Читать дальше