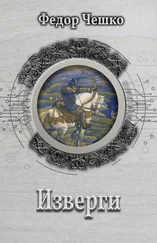Я в момент растерял хворобливость свою,
Стал отважным, как гиппопотам;
И красивые девы в повзводном строю
Всюду шлялись за мной по пятам…»
«Ну, и ты…» — «Я не пил,
не любил баб, не крал,
Упаси меня Бог, экселенц!
Сверх зарплаты я лишней копейки не взял
И сквозь суетный блеск мишуры да зеркал
С честью нес аскетизма венец!»
«Что не крал — хорошо, —
Петр покашлял в кулак. —
А с чего же, к примеру, не пил?
Ведь не грех, коль с умом!» —
«Ваша светлость, да так…
Не привык… Опасался… Сглупил…»
Усмехнулся святой: «Говори же смелей,
Что ж ты хочешь за этот… венец?» —
«Мне, начальник, за праведность жизни моей
Поскорее бы в рай наконец!»
Петр взглянул на него, как солдат на блоху:
«Дураку, видно, ум не пришить!
То ты праведной звал импотентность к греху,
А теперь — непривычку грешить?
Я насквозь тебя вижу, отродье ужей!
Приговор же мой будет таков:
Знаешь, друг, мы ведь в рай не пускаем ханжей,
И уж паче того — дураков.
В общем, так: доживи. Как помрешь — заходи.
Да прихлопни раззявленный рот».
…Долго вешкой торчал на пустынном пути
Ошарашенный экс-колоброд.
А над миром качались слепые дожди,
В перелесках безумствовал май,
От медвяного духа щемило в груди
И хрустально сверкал далеко впереди
Все еще не потерянный рай.
* * *
Что? Мораль? Вот привычка, как сладкий творог,
Мазать смысл на пампушки баллад!
Ну, извольте. Начинкой не красят пирог.
Напоказная святость — одна из дорог,
Что уводят под вывеску «Ад».
Что ж еще можно вылущить из шелухи
Легкомысленных шалых стихов?
Глупость с ханжеством — это не горсть чепухи,
Глупость с ханжеством — это отнюдь не грехи,
А горшки для взращенья грехов.
Началось все это безобразие с того, что дева пообещала близнецам показать, где раки зимуют. Напрасно, конечно, пообещала; рак-то один-единственный, а близнецов — сами знаете. Затеялась драка. Прибежал Орион и выпорол близнецов поясом. Дева упала в обморок на скорпиона. Дальше — больше. Гончие псы всей стаей отправились разбираться со львом (видите ли, давно хотелось). Водолей оседлал кентавра, и они провозгласили себя новым единым и неделимым созвездием «Всадник». Весы с треском развалились на созвездия правой чашки, левой чашки и коромысла. При этом особо невзвешенно повела себя стрелка; сперва пожелала отломаться от коромысла и присоединиться к стрельцу, а потом, отломавшись-таки, поставила на стрельце южный крест и назвалась созвездием сходняка. Змееносец смотрел, слушал, а потом заплакал и повесился на змее…
…Злобным шепотом проклиная поганца Клауса, его поганую «рапсовку» и его же поганый рацион, якобы уберегающий от посталкогольного бреда, Матвей заворочался и сел. В койке чавкало, как в болоте, — очень хотелось верить, что только от пота и ни от чего кроме пота. Молчанов бесполезно обтер мокрое лицо мокрыми пятернями, скользнул рассеянным взглядом по своему отражению в черном иллюминаторном стеклобронепласте, затем глянул на гипнопассиватор… да так и окаменел, таращась.
Гипнопассиватор был выключен. «Какого черта, ночь же еще…» Экспедиционный бухгалтер так бы и не заметил, что думает вслух, не откликнись кто-то на его изумленную реплику ехидненьким: «А если думать не только спинным мозгом?»
Матвей завертел головой в поисках таинственного откликальщика и опять ушибся взглядом об иллюминаторное «стекло». Ну да, конечно. Черное редкозвездье там, снаружи, не имеет никакого отношения ко времени суток. «Каракал» вышел из сопространства. Перелет завершен? Ну и хрен с ним. Все едино неясно, почему вырублен гипноз: таймер показывает чуть больше трех часов корабельной условной ночи… Неужели некий пьяный кретин с вечера отключил-таки искусственный сон?! Да… да нет: через пять минут после такого отключения сюда бы натромбовалась целая свора ремонтных исп-механизмов…
«Проморгался наконец?» — осведомился все тот же ехидноватенький невидимка.
Ага, это интерком. И говорит он голосом Клауса.
«Срочно приходи в рубку», — сказал интерком голосом Клауса. И было в этом спокойном голосе нечто такое, что Матвей, ни словечка не спрашивая, дернулся к выходу.
Читать дальше



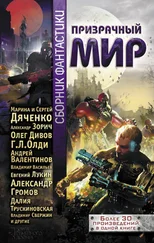



![Федор Чешко - Ржавое зарево [litres]](/books/399417/fedor-cheshko-rzhavoe-zarevo-litres-thumb.webp)