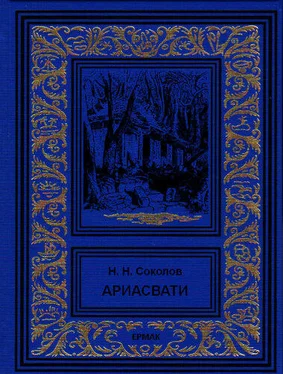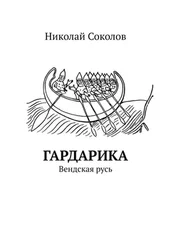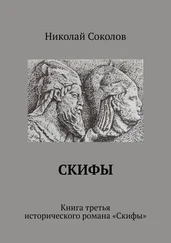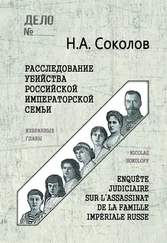Между тем солнце склонялось к западу и нужно было подумать о возвращении домой. Перейти ручей близ устья не представлялось возможности; возвращаться назад прежним путем, в обход ущелья, было далеко и утомительно. Всматриваясь вверх, Андрей Иванович, казалось, видел несколько таких мест. Но ему пришлось подняться довольно высоко в гору, прежде чем он нашел удобное место для перехода. С трудом пробрался он через ручей по скользким, обточенным водою камням, в то время как под ногами его бешено неслись, шумя и пенясь, прозрачные волны, и усталый он сел отдохнуть на другом берегу на выдающемся уступе скалы. Он огляделся кругом, чтобы определить место острова, в котором находился, и замер от восторга. Над его головой широкими уступами, скрывавшимися один за другим, возвышалась гора, покрытая кое-где одинокими пиниями и цепким, как будто засохшим кустарником. Прямо перед ним простирался широкий вид во все стороны, у самого подножья горы за водопадом чернело, извиваясь змеею, ущелье и пропадало в лесу вековых тропических сосен, уходившем далеко влево, почти вплоть до западного берега острова. На заднем плане лес этот, синея вдали, переходил в отдельные купы, между которыми все чаще и чаще возвышались перистые, вырезные вершины пальм, направо лес постепенно изменялся в пальмовые рощи и в яркую зелень бананов, хлебных растений и болотных пальм, из-за которых, как лоскут голубого атласа, блестел клочок озера. Над озером, у подошвы горы, темнела плоская кровля храма с двумя своими колоннами по сторонам, из которых на одной резко рисовалась опрокинутая половина шара. Позади храма опять шли леса и рощи, окутанные голубой дымкой дали; за ними далеко-далеко виднелись зубцы прибрежных скал, позади которых расстилался до самого горизонта необъятный простор океана, сливаясь с безоблачной лазурью неба. На всем ландшафте лежала печать мира, тишины и спокойствия и самый шум ручья, бешено мчавшегося под гору, не нарушал этого спокойствия, казалось, он навевал на душу такие же мирные грезы, как песнь старой няни над дремлющим ребенком.
Однако солнце спустилось уже довольно низко. Замечтавшийся Андрей Иванович очнулся, взглянул на часы и, вздохнув, стал спускаться под гору. Было около пяти, до заката солнца оставалось не более часу. Надо было торопиться, чтобы засветло добраться до дому (так Андрей Иванович называл свою палатку), потому что путешествие по лесу в темноте не представляло никакой приятности.
Когда Андрей Иванович подходил к опушке ближайшей рощицы, из-за деревьев появилось какое-то животное и, припрыгивая, побежало к озеру. Издали оно казалось величиной с козленка и было покрыто длинной, волнистой шерстью пепельного цвета. Андрей Иванович пошел к нему наперерез, перезаряжая на ходу ружье. Впереди виднелись кусты, за которыми животное могло скрыться. Чтобы предупредить это обстоятельство, Андрей Иванович побежал быстрее и, приблизясь на ружейный выстрел, спустил курок. Когда рассеялся дым от выстрела, животное уже неподвижно лежало на земле у самого куста, за которым намеревалось скрыться. В то же время из-за куста появилась кроткая головка льямы, послышалось тихое призывное блеяние и, наконец, осторожно раздвигая ветви, на поляне показалась вся льяма. Она остановилась над убитым животным, обнюхивая его кругом, и принялась лизать. Андрей Иванович подошел совсем близко и рассмотрел, что на земле лежала с простреленной головой льяма, величиной не более полугодового ягненка. Старая льяма продолжала лизать своего убитого детеныша. Она несколько раз взглянула на Андрея Ивановича своими кроткими, доверчивыми глазами, и он ясно мог разглядеть, что из глаз ее катились слезы и текли по ее красивой мордочке. Эта сцена так его тронула, что он готов был дать зарок — никогда больше не браться за ружье. Он тихо подошел к льяме и осторожно погладил ее по спине. Она насторожила уши и, перестав лизать, обернулась к нему, обнюхала его платье и вдруг, фыркнув, как будто что-то неприятное попало ей в ноздри, испуганно убежала в кусты. Андрей Иванович несколько минут прислушивался к ее жалобному блеянию и, когда оно затихло вдали, поднял на плечо убитую льяму и в сумерках потухающего дня грустно пошел к своей палатке. Он чувствовал на душе такую тяжесть, как будто сделал преступление. "Ну, что же? — пробовал он утешить себя грустной иронией, — раз сделано преступление, надо по крайней мере воспользоваться его плодами: бесполезное преступление — самое глупое".
Читать дальше