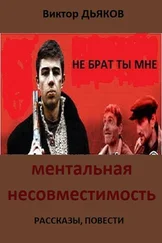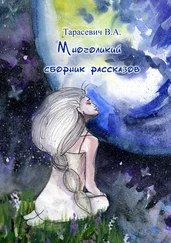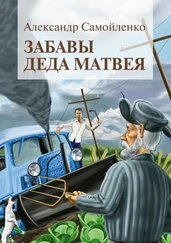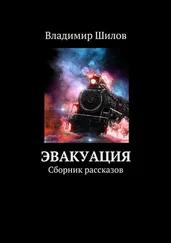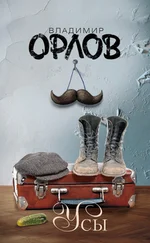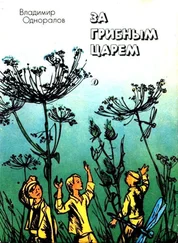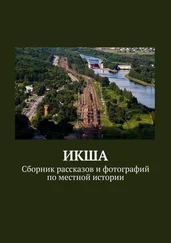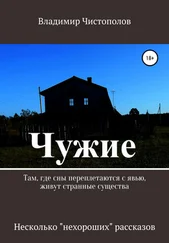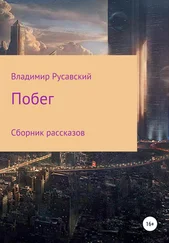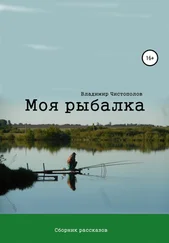Москва 1950 год. Двухэтажный дом, в котором жил Александр с матерью, располагался в безымянном переулке Малой Грузинской улицы. Здание, построенное пленными немцами, уютно устроилось по соседству с гаражом пожарной части. Двор был тупиковым, но давал возможность въезда и выезда, в частности, машине начальника пожарной команды, который имел резиденцию в этом доме. Нынче, никто и не подозревает о существовании этого пятнышка на лике микрорайона, города, страны… Квартира в полторы комнаты, считалась коммунальной, но с отдельной дверью из нежилого коридорчика, да и с крохотной ванной. Достопримечательностью была та часть квартиры, которая имела заколоченный наглухо и задрапированный выход в тыльной стороне дома, где и размещался наш герой с кроватью, шкафом, столиком с этажеркой, кушеткой. В часы засыпания мальчик прислушивался к звукам, приходящим из-за двери, они были приглушенными и фантастически разнообразными: от шума морского прибоя до чьих-то бесед шепотом. Осознание таких образов пришло в более зрелом возрасте.
В доме жили семьи различного происхождения, но родители почти у всех воевали или трудились на оборонных предприятиях, что было заметно в праздничные дни: ордена, погоны, разговоры. Отец Александра, пока не уехал в Минск по вызову его бывшего командира дивизии, также сверкал орденами на парадном кителе… Фронтовое братство не всегда проявлялось с учетом конкретный семейных обстоятельств. Мать же преподавала математику в ближайшей школе и на курсах «Трехгорки», что в зарплатном выражении выходило на уровень «две ставки». В начале тридцатых она закончила «Трехгоркский техникум», работала техником-технологом до сорок четвертого и считалась ветераном отрасли. После пединститута, в который она поступила по направлению от производства, стала преподавателем математики. Военные годы: работа в три смены, дежурства на крышах, нехватка продуктов, одежды… Такие факты усваивалось мальчиком из невольно подслушанных разговоров коллег мамы по ниве просвещения во время нечастых чаепитий в квартире.
Во дворе были свои порядки. Главный хулиган (но не драчун) был Мишка Маякин, по кличке Махра, старший сын из многодетной семьи. Он руководил ребятней: посылал за бутербродами для себя или кого-либо, определяемого по свои критериям, улаживал споры, учил играть в футбол, изредка давал подзатыльники. Воровал (как потом выяснилось) не в своем районе. Чтобы не попасть за решетку, ушел в армию, где попал в какую-то техногенную аварию и вернулся почти лысым. Колоритной семейкой были родители и дети «пожарного начальника», который долго служил в Германии, а его дочь и сын так и родились там. У них была самая большая квартира в доме, а в каждой комнате с коврами на полу и стенах стоял приемник «Грюндик», в «горках» сверкал и пел хрусталь. Хозяйка же этого царства была директором мебельного магазина, дама приметная, с украинским говорком и в обильных дорогих украшениях. Младшенький сын, ровесник Александра, был капризным, но в целом нормальным парнем. Следует отметить, что каких-то проблем в отношениях жителей дома не наблюдалось. Люди, вышедшие из войны, имели свою структуру ценностей: не завидовали, сохраняли достоинство, трудились. Пожарная же часть часто выделяла «Студебеккер» для поездок семей за город «по грибы-ягоды». Для детворы это был настоящий праздник.
Другой статьей жизни и развлечений детей нашего двора была «болтанка» по району, прилегающему к зоопарку. В его окрестностях всегда было оживленно. То в одном переулке, то в другом, возникали импровизированные рынки. Торговали всем: инвалиды войны запчастями для велосипедов, грациозные дамы-одеждой, бельем явно неотечественного производства, мужчины в шляпах и очках-книгами, часами и так далее. Мальчишкам района было интересно толкаться средь этого гомонящего разноличья. Милиция периодически разгоняла рынок, который через пару дней возрождался в соседнем закоулке. Дело в том, что где-то здесь сложным образом проходила какая-то административная граница то ли районов, то ли зон ответственности ведомств, а соответственно и меры принимались разными организациями. Следует отметить, что эта форма торговли исчезла сама собой с окончанием второй волны выселения инвалидов войны с улиц городов. Колоритными явлениями в округе были: зоопарк, с возможностью безбилетного проникновения и развесным мороженым из алюминиевых бидонов в деревянных бочках со льдом, кинотеатр с утренними сеансами, семечки, рассказы бывалых пацанов в скверике за станцией метро, иногда мастерское «музицирование» разномастных исполнителей… Досягаемость «Серебряного Бора» с его водными достопримечательностями вносила отдельную статью в уклад жизни района. Так проходило детство и отрочество. У Александра определились два друга. Один, Вовка-Владимир, сын пожарного начальника, другой – Костя Гармаш, из семьи каких-то инженеров – испытателей, большую часть года живший с бабушкой и теткой. С окончанием школы «тройка» распалась. Костя поступил в военное училище, Александр – в университет, а Владимир уехал в Минск, поступив в Институт народного хозяйства. Правда такому его шагу предшествовал отъезд матери, а затем и отца (к этому времени он вышел в отставку) на Украину к престарелым родителям. Сестра же уже успела выйти замуж. Побежали годы учебы вперемешку с атрибутами того времени таких как, стройотряд и картошка, туризм по крымскому побережью, КВН и прочее.
Читать дальше
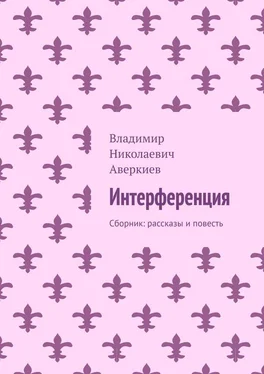
![Владимир Марамзин - Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести [Сборник юмористических и сатирических, но в основе бытописательских рассказов.]](/books/39550/vladimir-maramzin-smeshnee-chem-prezhde-rasskazy-i-thumb.webp)