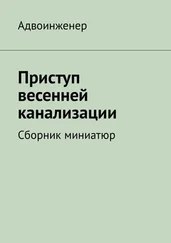— город хорошо укреплён, провиант и войска есть.
— март, т. е. на дворе жрать нечего.
— Мы будем сидеть да смотреть, как они там, под стенами, падаль жрут, голодают и дохнут. А ты, княже, иди на Рось, иди в Белгород, зови полки с Волыни, с Галича, с Турова. Ты ж Государь! Тебя послушают. Как дороги просохнут — явишься в сиянии силы и славы. Вороги к тому времени ослабеют да числом поуменьшатся. Тут мы их всех и порубаем. И будет снова кощей суздальский по ногате.
Крепость сковывает и изматывает противника. Потом приходит деблокирующая армия и… Второй поход Боголюбского на Киев именно так и закончился. Катастрофой под Вышгородом.
Идея деблокирования стала особенно привлекательной после поражения в полевой битве.
Делать-то чего?! Чего делать-то?! Просто сидеть да со стен смотреть? А так… маячит «светлое будущее» с подходящими на выручку со всех сторон новыми полками.
По науке: перехватить стратегическую инициативу.
Оставив брата в городе «на хозяйстве», прихватив семейство, казну, символы власти и малую дружину, Жиздор в последние дни перед блокированием Киева решил из него сбежать.
Это — не РИ. Это моя АИ. Результат моих действий. Но не целенаправленных, а следствие моего пренебрежения трудом вспоминания. Недопонял-болтанул-передали. Выглядит разумно? — Сделали.
А если бы — «не»? — А без разницы. Я выходил в нужную точку в нужное время достаточными силами. Подробности были бы другими. Может, Жиздора снял бы мой лучник ещё в городе, в начале прорыва. Или поднял на копьё мой копейщик где-то на дороге на Василёв.
«Дорога — это направление, по которому русские собираются проехать». И какая разница — хрустнет ли конкретная ветка под левым колесом или под правым? — Лишь бы хрустнула.
Братец Жиздора Ярослав, оставшийся командовать в городе… не талантлив. Во время похода на половцев командовал обозом, перед вокняжением брата участвовал в неудачном «заговоре о разделе имущества». Позже, после смерти Жиздора устроит уже свой поход на Киев. Тоже без толку. Летопись отмечает нелюбовь киевлян к нему, в отличие от отношения к его брату.
Но — князь. Должен быть. Что бояре на «Святой Руси» без князя воевать не могут — я уже…
Если с «побегом Жиздора» я и сам не понял, что сделал, то по другой теме пришлось потрудиться.
Тема: «11 князей». А их точно 11? А поимённо?
Тема — «жаркая». Куда «жарче» самого похода.
Логика простая: я попандопуло-прогрессор.
Был бы я просто попаданцем — забился бы на островок необитаемый, ловил бы рыбку, завёл бы себе Пятницу, как Робинзон… Или сел бы очередным «золочёным крысюком» на большой куче местного дерьма.
Увы, меня воротит от средневековья. Здесь — святорусского. Поскольку я именно сюда вляпнулся.
Раз «воротит» — нужно менять. Прогрессировать. Терпеть дерьмо всю жизнь перед носом — мне не интересно. Прямо скажу — противно.
Менять — как?
Понятно: просвещение, просвещение, просвещение…
Как это организовать? Чтобы «просветителей» не забивали в колодки и не продавали на торгу.
Общество можно менять сверху, снизу и сбоку.
Реформы Александра II — сверху, Октябрьская революция — снизу, Батыево нашествие — сбоку.
Два последних варианта… уж больно кровавые. Я, конечно, «неукротимое попандопуло». Но людей жалко. Гумнонизьм выпирает. Извините.
Поэтому пытаюсь «сверху».
Не ново.
К.Маркс и Ф.Энгельс, после поражения революций 1848–1849 гг., подметили, что объективные задачи этих революций были в последующие два-три десятилетия решены теми правителями, которые подавили революции. Назвали «революцией сверху». К ним ещё относят «Революцию Мэйдзи» в Японии в 1867–1868 годах и реформы Александра II. Царь прямо говорил: «Если мы не отменим крепостное право сверху, то крестьяне, вскоре, отменят его снизу».
Классический пример: реформы Бисмарка. Он использовал радикальные, по сути революционные, средства для реформистского, в целом, решения задач. Энгельс назвал его «королевски-прусским революционером».
Я надеюсь устроить кое-что похожее. С точностью до наоборот. Ванька-Лысый = Бисмарк-наизнанку. Использовать реформистские, по форме, методы, для решения революционных, по сути, задач.
Революция — коренное изменение чего-то. Что может быть более революционным в обществе, чем изменение способа производства? Преобразование основы основ — «производительных сил». Трансформация потребует изменения и «производственных отношений». Замена «натурального» хозяйства «товарно-денежным». И пошло-поехало: право, структура общества, собственность, государство, идеология, политика, культура… и прочие надстроечные кружавчики и рюшечки.
Читать дальше


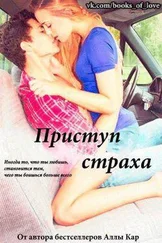
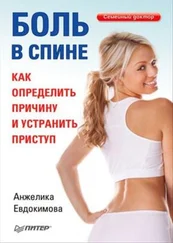

![В Бирюк - Обязалово [СИ]](/books/391348/v-biryuk-obyazalovo-si-thumb.webp)