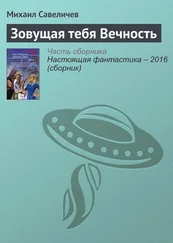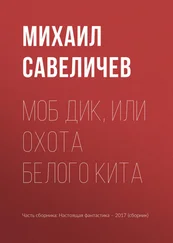Я встаю, стряхиваю с себя остатки краски, беру его за руку и говорю: «Иди!», но он по привычке хватается за костыли, и мне приходится отобрать их у него и мягко подтолкнуть, и вот мы оказываемся в галерее, где существует только первозданный свет, только что отделенный от тьмы, и аккуратные прямоугольники картин в скромных рамах.
Мы здесь единственные посетители, и я веду его к ближайшему творению. Моя Лиза времен торгашества, войны и подлости усмехается сквозь растрескавшуюся штукатурку, просвечивая красным, играющим на крохотных капельках выступившей лимфы, пытается нам что-то сказать (может, что-то о своей улыбке или о Создателе), но краски крепко прихватили разваливающееся лицо, и гость мой закрывает глаза руками и перебегает к другой картине, откуда на него смотрит печальным взором облезлая, старая собака, потерявшая обычную звериную форму, так как в ней сидит кто-то или что-то, готовое вырваться из-за решетки ребер, и ярость, злость, ненависть, не звериная и тем более не человеческая пытается проклюнуться сквозь зрачки пса.
Вот прекрасная обнаженная девушка, переодевающаяся после купания на реке и целомудренно прикрывшая рукой грудь, невинная и спокойная настолько, что мне не удается в ней разглядеть то, что до крика испугало гостя, и приходится оттащить его от холста, перейти к другой композиции, которая мне очень нравится, так как очень точно изображает нашу жизни ровным лазоревым фоном, пересеченным четырьмя вертикальными разрезами и из кромешной темноты по ту сторону картины на нас взирает бездна, затягивает, гипнотизирует, так что я почти пропускаю тот момент, когда мой спутник подносит пальцы к щелям, словно пытаясь убедиться в чем-то, что недоступно глазам, и я в последний момент спасаю его руку, сильно ударив по запястью.
Что еще? Конечно, Распятие, в котором нет ничего величественного, где нет ни одного одухотворенного лица, даже среди тех, кто висит на крестах, где нет и намека на Бога, а есть только пустыня и реальные люди, вонючие, грязные, вшивые, блаженные и сумасшедшие, где каждый просто делает свое дело — одни с любопытством глядят, другие корчатся, третьи, опершись о копья, тихо судачат о погоде.
Дальше идут детские рисунки, неумелые, наивные, страшные своей непосредственностью и обнаженностью зла мира, где рисуется только то, что видится собственными глазами, не приукрашиваясь и сопровождаясь такими же корявыми детскими подписями, сообщавшими, что тут папа убивает маму, а это маленький братик перед тем как его съели, а это…
Галерея, к сожалению, бесконечна, зло оказывается изобретательнее добра и любовно пополняет свою коллекцию скульптурами, фотографиями, книгами, археологическими находками и предметами быта, если это можно назвать бытием, и тут ничто не повторяется, не приедается, а все так же и через час, и через год, и через десяток километров горящего коридора все так же сильно и больно бьет по заскорузлой душе. Здесь не выдерживают и самые закаленные убийцы и нелюди, так как они все равно люди, но здесь бесполезно учить их добру, любви и милосердию, это — не терапия, это — полная и необоримая смерть души, здесь окончательно рвется в клочья совесть и нежность, надежда и сострадание, лишая даже самую никчемную душонку жизненно необходимого каркаса, на котором держится зло.
Гость протянул мне мокрую, мыльную тряпку и приказал мыть, я немедленно ему починяюсь и принимаюсь оттирать бугристую, грубую краску, которая тут же стекает к моим ногам красным ручейком, словно обнажая что-то прекрасное, но, оказывается, ее не зря наносили столь крупными мазками, они образовывали тонкую перепонку, за которой скрывается целое море гнили и крови, сгнивших водорослей и моллюсков, утопленников и русалок, и все оно плещется в лицо, но гость поддержал меня, и мы стоим непоколебимо в разбушевавшемся шторме, оглушенные ревом ветра и криками чаек, мокрые и грязные, а по полу бегут бурные потоки нечистот, приятно разнообразя операционную чистоту и стерильность. Он отпустил мои плечи, и счистил грязь с прекрасного, загадочного, зеркального лица великого гения, и мне остается лишь увести его отсюда, что я делаю с некоторым сожалением.
Гость уселся в кресло, а я сажусь на диван, распластав руки по его толстой спинке, закинув ногу на ногу, готовый слушать продолжение истории. Впрочем, он не спешил ее начинать, то ли привыкая к моему новому и, в общем-то, привычному облику, то ли выстраивая в голове более менее подходящие гипотезы моего же преображения, из-за чего я откровенно скучаю, вылавливаю за пазухой маленьких юрких морских рачков, отправляемых сразу же туда, откуда они и явились, — в небытие. Увлекшись ловлей, я не сразу понимаю, что рассказ начат, что губы зашевелились все с той же подмеченной мной при встрече неохотой, усилием, словно кто-то в нем сидел и заставлял их двигаться двумя палочками, как в кукольном театре создавая иллюзию живого говорящего фантоша.
Читать дальше