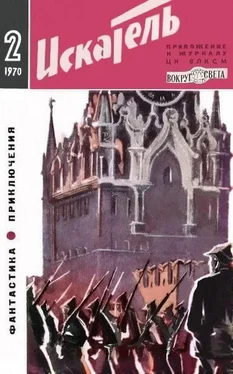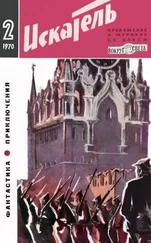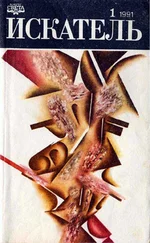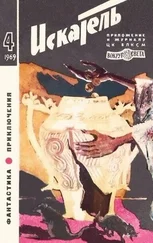Рунке приподнялся, отчего стал еще более сутулым.
— Пойдем, Ваня, — говорил Спартак, беря Рунке за руку, увлекая за собой, — пройдем по лагерю.
Они споро пошли вдоль палаток. Их было грибное множество здесь, и в каждой звучали транзисторы и слышался смех, слышалась иностранная речь — словно тоже из приемника, но это смех и голоса здешней жизни. А дальше, за палатками, вставали домики из камня, еще не жилые, недавно выросшие, и светлыми стенами возвышался почти законченный дом с надписью «Minsk, 1965» по карнизу. Сейчас над этими строениями полыхали яркие цвета заката; и странно было слышать протяжный, непрерывный голос муллы, усиленный репродуктором и доносящийся сюда из соседнего селения Уадиас: был час вечерней молитвы.
Когда они с Иваном вошли под брезентовый купол, их оглушили сразу два транзистора, как будто подпрыгивающих от толчеи звуков.
Родное общежитие, которое напоминает о другом, оставшемся в Минске общежитии, родное не только потому, что здесь твой дом, а главное — потому, что здесь живут друзья, живет Володя Костебелов, живет Генка Стружак, живет Генка Леднев, живет арабчонок Омар. И пускай нет сейчас здесь Володи Костебелова — ты думаешь о нем больше, чем о себе.
Так они и сидели в молчании, которое часто необходимее разговора, потом выключили один транзистор и приглушили другой. А потом, намолчавшись вдоволь, Ваня Рунке распрощался и ушел к своим немцам, а Спартак разделся и, смежая глаза, услышал голос Генки Стружака:
— Ждать Володю или не ждать? Неплохо бы услышать о полетах молодого аса…
— Прилетит! — слишком бодро отозвался Генка Леднев, бородатый командир отряда, чернявый красавец и модник. — Прилетит!
Спартак не успел перевернуться на бок и уснул лицом к лампочке, рухнул в сон. Но где-то среди ночи, когда не слепила лампочка, неожиданно пробудился — вернее, его растормошили, вытащили из сна беспокойным окликом:
— Спартак, Спартак!
Он сонно чертыхнулся:
— А-а, черт! Ну что за шум? Да включите же свет!
— Движок до двенадцати только, — напомнил Генка Стружак. А Генка Леднев придвинулся к Спартаку, щекоча бородой, и выдохнул теплым ртом:
— С одним арабом что-то плохо, с Ахмедом из соседней палатки. Слышишь — кричит…
— Сейчас! — привычно произнес Спартак. — А где Володя Костебелов? — И, стряхивая с себя сон, принялся натягивать куртку, штаны. — Идем, идем. Фонарики захватите.
Палатка арабов была в двух шагах; они в ту же минуту были подле нее и, пробравшись под полог, разом включили свои фонарики. Тени людей заполнили палатку, как живые люди, и показалось очень тесно. Спартак, втянув голову, пробрался на голос стонущего Ахмеда, и тут же свет фонариков явил его болезненнее, потное лицо. Ахмед сам взял жаркой ладонью Спартака за руку и бережно подвел к правому боку; и Спартак, еще не измерив температуру, определив жар по этой ладони Ахмеда, отрывисто спросил у Генки Леднева:
— Сколько раз у него случались такие боли?
Гейка Леднев спросил у Ахмеда по-французски, тот что-то ответил, а потом свободной рукой показал два пальца, качнул головой и выпрямил еще один палец, но тут же и четвертый палец выторкнулся кверху; и Спартак озадаченно стал потирать щеку, решая: «Аппендицит. Может, уже гнойный. Температура высокая. Оперировать, оперировать! Но довезешь ли до Тизи-Узу? Там госпиталь, там наши, советские врачи. Двадцать пять километров. Двадцать пять километров ночной дороги… Да он же от крика, от собственного крика дойдет. Постой! А может, и не аппендицит?»
И Спартак принялся опасливо ощупывать Ахмеда, тот постанывал, а потом вдруг закатил глаза и закричал. И в эту секунду Спартак сказал себе, что никуда не повезет парня, что будет оперировать сам.
— А что же свет выключили! — крикнул Спартак, хотя отлично знал, что лагерный движок до двенадцати ночи вырабатывал энергию. — Послушайте, немедленно разбудите кого следует, немедленно поставьте у движка! И автомашину гоните к медпункту, две или три автомашины. А ты, Гена, и ты, Геннадий, — со мной. Поможете Ахмеда перенести. Какая же черная ночь!
Леднев тут же передал распоряжения Спартака, несколько арабов исчезли, и вот Леднев подался вперед дремучей своей бородой:
— За носилками, Спартак?
— Нет! — слепо глянул Спартак сквозь лучи фонариков. — На раскладушке понесем. Взяли!
И вышел первый, и знал, что ни Стружак, ни Леднев не покачнут раскладушку, и фонариком светил на них, потому что лагерь охранялся алжирскими солдатами, и если человек шел ночью и не освещал себя, по нему могли стрелять, как по контре. Спартак светил на них, а они несли раскладушку, и Ахмед как будто приумолк, не слышно было его, зато слышалось, как злобно и страстно кричат где-то вдали шакалы и точит, точит ночную темень знойный звон цикад.
Читать дальше