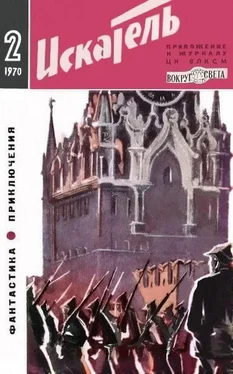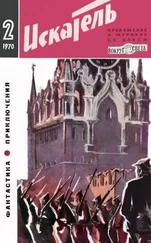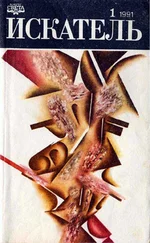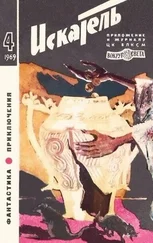Володя ответил тем же.
А лейтенант еще козырнул, и солдаты козырнули. Все они быстро уселись в машину, и она скоро пропала, затерялась впереди на дороге, да только Володя еще некоторое время стоял, положив руку на курчавую голову Омара, и смотрел, и на лицо ему ложилась тревожная озабоченность, как это всегда бывает с теми, кто провожает солдат.
День еще не кончился, но трудовой день кончился, и можно было идти в свою палатку. И все же Спартак Остроухов, не снимая белого халата с подкатанными рукавами, оставался в этой, тоже своей, палатке, к брезенту которой была пришита у входа белая холстина с красным крестом и в которой резко пахло лекарствами. Весь день он врачевал раны, смазывал и бинтовал, вскрывал нарывы, поил микстурой, измерял температуру — и вот теперь, когда остался один, ощутил, как устал. Это случалось с ним всегда к вечеру, и он знал, что посидит еще немного в палатке — и все пройдет, а завтра снова закружит голову суматошный день.
Он вспомнил о Володе Костебелове, о его нынешнем дальнем рейсе. И вот сейчас, когда суматошный трудовой день все еще шумел в ушах, Спартак представил его ясные глаза, открытое лицо и мысленно как бы подмигнул ему: «Ну-ну, возвращайся поскорее из Алжира». Он имел право беспокоиться, он был старшим, он отвечал за Володю на тревожной алжирской земле, где и теперь в горах скрываются контрреволюционеры и жгут ночами костры, да и нужен, нужен был ему этот родной человек, всегда шумно и подробно делящийся с ним событиями дня — событиями, которые ему, Володе, помогают расти и взрослеть. Он любил, конечно же, любил Володю Костебелова, как и любил арабчонка Омара, наших Генку Стружака, Генку Леднева, немца Ивана Рунке.
И только он припомнил одного из них, как Иван Рунке просунул в палатку голову и руки, точно пытаясь нырнуть, сутулящийся, чем-то напоминающий большого кузнечика.
— А Володя где? — робко спросил он на чистом русском языке.
Был он из тех немцев, чьи родители во время войны замучены в гестапо. Звали его Иоганном. Но, прибыв в студенческий лагерь и познакомившись с русскими. Рунке отзывался на свое имя по-русски и учит, учит, учит язык, который был дорог его отцу с матерью, наверное.
Спартак взбил короткие белокурые, как перышки, волосы и попытался придумать в ответ что-нибудь озорное, веселое, ну хотя бы: «Пирует наш друг и крутит любовь в Алжире». Но Ваня Рунке сам знал о чертовски трудных дорогах в горах и потому спросил уже о самом Спартаке:
— Что-нибудь забыли поработать?
— Ага, забыл, Ваня, забыл, дружок, — серьезно посматривая на него, начал Спартак и уж не мог отделаться от мысли, что часто Рунке напоминает ему ту, Отечественную войну, которую Спартак не видел, но знал по горю матери и всех других матерей.
— Вот беда, Ваня, забываю о просьбе своей матери, никак не выполню. — Сам не ожидая того, он вдруг ощутил желание рассказать эту историю. — Слушай: вот какая быль. В сорок первом наша семья без отца села в поезд и — в эвакуацию. Но в Минске от состава остались щепки, костры. Мы чудом выскочили на перрон; я ничего не помню, я тогда и лет своих еще не помнил… Два дня отсиживались в бомбоубежище: мать и мы, четверо. Ни пить, ни есть — ничего. А после бомбежки побежали опять на станцию и по пути опять попали под бомбежку. Забились под лестницу каменного дома — кругом гремит и рушится. И никого из людей: кто куда мог — туда и бежал. Но вот заскакивают в подъезд мужчина и женщина, с ними мальчик лет десяти, похож на Омара. Мальчик потом выбежал из подъезда и принес на руках осколок бомбы, а женщина тут же выбросила осколок на мостовую. И как увидели наше семейство, стали расспрашивать: кто, откуда? Мать назвалась, а женщина вдруг обняла ее и заговорила, оглядываясь на мужчину: «Как же, знаю, знаю вашего мужа. Я из Наркомпроса и бывала в вашем городе, бывала на лекциях мужа! Вам нельзя, нельзя оставаться, скорее — отправляется последний состав…» И вот подхватили нас они, и устремились все вместе к вокзалу. А в вагонах полно: негде даже малыша приткнуть, И вот уж двинулся состав, и стали нас по одному бросать на руки людям. Потом по всем вагонам искала мать своих четверых… Так мы и спаслись. А город весь разбомбили. И вот теперь, когда приезжает мама в Минск, все просит меня разыскать наших спасителей; и я обещаю ей сделать это, хотя не знаю, как и где искать, если неизвестны их имена.
Рассказывая, Спартак принялся расхаживать под брезентовым верхом палатки, сдернул с себя на ходу халат и вновь уселся, комком уложив халат на коленях. А когда посмотрел взволнованно на Ивана Рунке, то принялся потирать щеку, того ведь тоже воспоминания резали по сердцу.
Читать дальше