Юрий Иваниченко - В краю родном, в земле чужой
Здесь есть возможность читать онлайн «Юрий Иваниченко - В краю родном, в земле чужой» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Фантастика и фэнтези, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:В краю родном, в земле чужой
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
В краю родном, в земле чужой: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «В краю родном, в земле чужой»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
В краю родном, в земле чужой — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «В краю родном, в земле чужой», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
По воскресеньям и на праздники отправлялись в церковь, и много раз в золоте и лазури угадывала Мария лик Господа - и благодарила его, искренне и невычурно, что дал Он ей все, что может пожелать женщина, добавляя - совсем уже в глубине души, - что счастье такое даровано ей незаслуженно, что маленькой и грешной ей достались дары, предназначенные иной, более достойной.
... А весной, едва подсохли дороги, прибыл Александр Кобцевич.
Не сам приехал - привезли, простреленного навылет на дуэли, вызвавшей недовольство Императора. Супруга, в тягости, не смогла покинуть Петербург, а граф не счел возможным пока там находиться.
Мари еще сумела убедить себя, что пронзительный жар и истома, волнами прокатившиеся по телу, вызваны жалостью и состраданием к бледному, исхудалому, с отросшими локонами Александру, полулежащему в подушках. И дурноту внезапную, и слабость в ногах объяснила только запахом снадобий лекаря, да случайно увиденным клочком корпии с засохшей сукровицей.
Но дело было совсем не в женских слабостях - и они оба ясно читали в глазах друг друга.
И когда, спустя три недели, рана зажила, и Кобцевич начал отдавать визиты, и приехал к ней (почему-то в отсутствие Дмитрия Алексеевича), сдерживаться не достало сил...
Еще несколько сладостных мгновений Мари что-то шептала, с восторгом и ужасом впервые ощущая, как наливается ее тело блаженно-горячим напряжением, а потом только и могла, что удерживаться на самом краешке сознания, и прижимать губы к губам и шее Александра, заглушая рвущиеся из глубины естества крики. А когда резкость и звуки мира восстановились, подумала: вот что значит стать женщиной, - и в истоме прижалась к гладкой горячей груди любимого.
На третью ночь, когда свежий, пахнущий банными травами Дмитрий Алексеевич ласкал ее с привычной нежностью, Мари тайно, стыдясь себя самой, почувствовала, что единственно приятное и значительное здесь - мысль об Александре, и в тот лишь момент нечто дрогнуло в ней, когда прихлынуло воспоминание о пережитом блаженстве.
И когда Дмитрий Алексеевич, ее муж перед Богом и людьми, Богом посланный, лучший из людей, с которыми ее сводила и когда-либо сведет судьба, уснул Мари заплакала, впервые почти за год замужества.
Еще раз она плакала неделю спустя, в церкви, назавтра после сладостного и тревожного безумия в спальне Кобцевича, в то время, когда Дмитрий Алексеевич и старый граф ездили по дальним полям, уточняя какие-то вехи.
Плакала, потому что сейчас только со всей беспощадной ясностью осознала глубину и боль никогда, отмеренного двумя нерушимыми венчаниями.
А еще потому, что почувствовала: станет матерью ребенка, который будет носить фамилию Рубан и отчество - Дмитриевич, и не дай ему Бог догадаться, кто на самом деле его отец.
И плакала, потому что понимала - грешна, паче грешна последней деревенской покрытки, потому что ни в чем не раскаивалась и ни у кого ни за что не могла попросить прощения. Знала - право, действительно знала, а не просто верила, что вернется Александр, сменит ненавистный Петербург на любимую Павловку - и они вновь найдут день и час, чтобы оказаться вдвоем, чтобы стиснуть друг друга в грешных, незаменимых, Судьбе угодных объятиях.
ГЛАВА 9
Одно понял Саша Рубан - кроме, конечно, своей конкретной задачи, - что с этим начальством каши не сваришь. Вроде уверены, вроде вычислили всех, кто может помешать, и расклад сил однозначно в нашу пользу, так что если придется пострелять, так самую малость и в начале. При первых арестах и захватах коммуникаций. Игра в одни ворота. И в то же время размахиваются, как перед большой войной - тут тебе и танки, и десантники, и гэбэшные дивизии, и все какие ни есть спецназы... Зачем? Чтобы всех взбаламутить, и сопротивлялись не от себя, а потому что столько против них, и от мысли о собственной значимости?
Конкретная задача ясна: выехать, захватить, арестовать, доставить. Сроки, средства, списки, пункты... И все, вроде бы. А танки на улице - на фига-то? Чтобы пошуметь на весь мир? Чтобы вместо нормальной смены вывесок (впервые, что ли?), до которой дела будет паре тысяч крикунов, взбаламутить всю страну? И солидные вроде бы люди, первые руководители, а не понимают того, до чего допирает милицейский майор.
Жаль, что казарменное положение - а то бы взять бутылку, на природу - и надраться до зеленых чертиков! Правда, ему, командиру, сорваться на пару часиков можно пока, но куда срываться? Домой, к Таньке, выслушивать очередные песни про то, что денег нет, порядка нет, жрать нечего, а по кэйбл опять порнуху крутят? Американский фильм с немецким дубляжем и финскими субтитрами? Выслушивать и замечать, что она нет-нет и поглядывает на часы и ужина действительно нет, и в холодильнике пустота, словно всерьез она здесь уже не живет, а так только, пребывает и только ждет, когда же наконец он укатит к себе на службу... Или - не так? Прошла уже плохая полоса, и она только и дожидается его, обрадуется неожиданному возвращению - неделю не виделись! - и захлопочет на кухне, а он, бросив амуницию в прихожей, встанет в проходе, загораживая проем, и будет смотреть, глупо улыбаясь, как Танечка, приплясывая на чудных своих ножках, собирает ужин ("так, на всякий случай, сготовила на двоих"), а потом на мгновение прижмет к щеке его тяжелую ладонь и заглянет в глаза...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «В краю родном, в земле чужой»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «В краю родном, в земле чужой» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «В краю родном, в земле чужой» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.



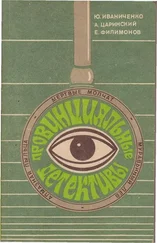
![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](/books/306957/robert-hajnlajn-chuzhak-v-chuzhoj-strane-chuzhoj-v-chu-thumb.webp)
![Юрий Иваниченко - Хроника миража [сборник рассказов]](/books/386756/yurij-ivanichenko-hronika-mirazha-sbornik-rasskazov-thumb.webp)
