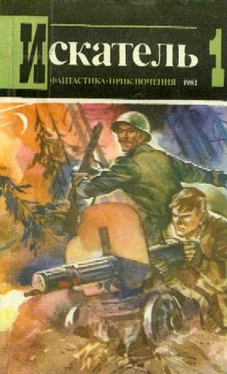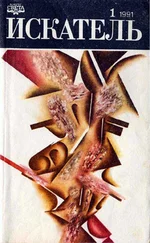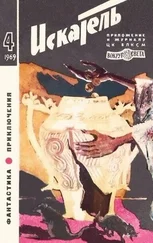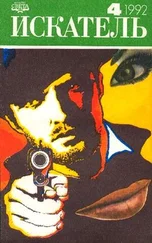— Так, хорошо… Бросаю!.. — И совсем тихо, с бессильным горловым клекотом: — Ваня, ребята… Все…
Самолет тряхнуло — бомбы полетели на цель.
— Как вы там, Иван Иваныч? — спросил Антон…
— Плоховато, ребятки. Совсем. Штурман?!
В наушниках тишина.
— Штурман!
Молчание.
Только сейчас Антон заметил дымный шлейф позади самолета, в то же мгновение чуть выше, но все ещё недосягаемый, опять мелькнул «мессер». Он летел почти в хвосте. Антон закричал капитану, словно тот и впрямь мог оттянуть на себя штурвал. И случилось чудо: самолет с надрывом пошел вверх, на долю секунды подставив немца под прицел. Антон вжал гашетки, вложив в них всю рвущуюся наружу ненависть, и вдруг понял, всем своим существом ощутил — попал, врезал ему в мотор. Сверкнуло — и самолет исчез.
— Молодцом, — тихо прошуршало в наушниках, и Антона отчего-то вдруг стали душить слезы.
— Иван Иваныч…
Огонь уже облизывал кабину, едко запахло гарью. И опять сбоку на пересекающемся мелькнул «мессер» — другой? Машина мчалась вниз крутым скольжением. То ли капитан из последних сил пытался сбить пламя, то ли уже не владел штурвалом. И снова Антон, выгадав момент, нажал на гашетку и, уже не отрываясь, давил до конца. Потом его оглушило неожиданно громкое:
— Приготовиться к прыжку…
Хотел спросить: «А вы, Иван Иваныч?», но что-то больно ударило в висок, на миг ослеп, уже словно издалека опять услышал: «Прощайте, ребята!», на ощупь рванул защелки, горячей головой ткнулся в колпак. Еще хватило сил перевалиться за борт под тугую свистящую струю.
Земля понеслась откуда-то сбоку, из черной бездны в рыжих всплесках пожаров, он мертво усмехнулся, рванул за кольцо и, уже теряя сознание, отрешенно подумал: «Вот и все. Конец…»
* * *
Телегу трясло на ухабах, качало в мягкой пыли. Потом под колесами загромыхала булыжная мостовая, и каждый толчок отдавался в виске тупой скачущей болью. Время от времени Антон открывал глаза, видел проплывающие как в тумане плетни, белые хатки с обгорелыми стрехами и совсем близко — потные., усталые лица красноармейцев, головы в грязных бинтах. Блеск шишковатых касок, короткие стволы автоматов, рявкающие окрики… И четкий, хмурый профиль Бориса с квадратным подбородком — все как во сне. Люди пешком, а они с Борькой на телеге. Почему?..
Запекло грудь, с трудом пошарил рукой — он был в одной исподней рубахе…
— Шнелль! Не оставать!
Телегу тряхнуло, он обмирающе вздрогнул от пронизавшей вое его существо мысли: «Плен». И снова полетел в черное небытие с единственным жгучим желанием: уйти из этого страшного мира. Раствориться. Исчезнуть.
Он уходил мучительно долго, то проваливаясь в воздушные ямы, то выбираясь «а поверхность, с подступавшей к горлу тошнотой и тягостным шумом в ушах, сквозь который — много ли прошло времени, он так и не понял — стали проступать чьи-то слова, хрипловатый смешок. В один из таких просветов он разглядел белый потолок, Бориса, который сидел в дальнем углу на матраце спиной к стене, уставясь в одну точку.
— Борь! — то ли позвал, то ли подумал, шевельнув спекшимся ртом, и, последив за его взглядом, увидел странно одетого старика: в гражданской кепке и немецком кителе, с «вальтером» на животе, — тот горбился на табуретке посреди комнаты, то ли и впрямь горбун, и что-то говорил, ласково улыбаясь хищным клыкастым ртом. Вот он отхлебнул из плоской фляжки, снова заговорил, и — точно вдруг прошла глухота — голос старика, сиплый, с гнусавинкой, проступил явственней:
— Плен что хрен — редьки не слаще. Но редечка, братка ты мой, как сказать, славная овощ, особенно ежели состряпать умеючи, с гусиной шкваркой…
Борис молчал.
— Со шкварками да под стакан первача, это ж не чета вонючему шнапсу… Ну да ничего, скоро опробуем, скоро, как сказать, дома будем. На Дону. Сам-то откель? С далека?.. Молчишь. Ну молчи, братка, помолчи. Опосля разговоришься. Это здесь умеют — разговорить, мать их так, немчуру. Где родился, и на ком женился, и какому богу молишься… Война есть война…
Горбун хихикнул, снова отхлебнул глоток и спрятал фляжку под китель, аккуратно застегнул пуговицу.
Тайком, почти не разжимая век, Антон оглядел пустую комнату, забранное решеткой окно, голые стены, крашеную дверь со свежепробуравленным глазком. На мгновение вспомнил дорожную тряску, конвоирские окрики и себя в исподней рубахе на возу. Странно, его гимнастерка поверх комбинезона лежала рядом на табурете, он узнал по зашитому рукаву, зато Борис был в продранных комбинезонных брюках под ремень и какой-то: грязной косоворотке… Сапоги их стояли в углу в целости и сохранности… И они сами… Почему они с Борькой здесь, в тишине, в чистоте?
Читать дальше