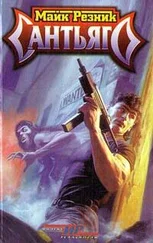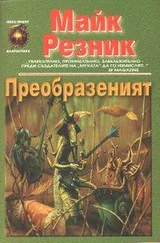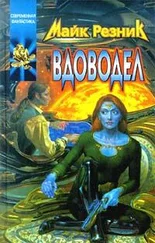— Мишеля я больше никогда не видела, — всхлипнула молодая вдова. — Несколько часов я прождала его возле входного колодца и лишь потом пошла домой, терзаемая тревогой. Вскоре пришел констебль и сообщил ужасную новость, но в глубине души я и опасалась худшего.
— И вы так ничего и не приметили? — настойчиво вопросил Дойл.
— Даже малейшая подробность могла бы вывести нас на след…
— Только тот жуткий вопль, но и его вполне хватило, чтобы меня убедить. — Она повернулась ко мне и сказала, повысив голос: — Моего мужа убило животное куда более ужасное, чем все дикие звери из вашего музея, месье профессор. И я поклялась объявить на него безжалостную охоту. Пусть я всего лишь женщина, но я не позволю ему продолжать убийства!
— Восхитительное заявление! — воскликнул Челленджер без малейшей иронии. — Позвольте заверить вас, мадам, в своей симпатии и предложить искреннюю поддержку.
Грубость его манер заметно растаяла, но я заподозрил, что это не более чем приманка. Несмотря на бороду, скрывающую две трети его лица, я все же разглядел, что губы Челленджера с сомнением кривятся, а его пронзительный взгляд обшаривает двор в поисках ответа на невысказанный вопрос.
— Нельзя ли снова взглянуть на то, что вы мне показывали, профессор? — внезапно спросил он, протягивая руку. — Я уже почти сожалею о своем недавнем скептицизме. У меня появилась парочка идей… Разумеется, вся эта история невозможна, но англичанин начинает свой день, уверовав в полдюжины невозможных вещей еще до завтрака.
Я протянул Челленджеру коготь, слегка удивленный тем, как изменилось его отношение к предмету. Он приподнял его, подставляя последним закатным лучам. Грубые руки Челленджера казались странно неуместными и примитивными на фоне охренных крыш, переходящих в нежную розовость облитых солнцем кирпичей.
— Мы станем охотиться вместе с вами, мадам — если вы позволите, — звучно объявил Челленджер. — Профессор, приношу извинения за свою вспыльчивость. Я завел слишком много врагов среди своих коллег и легко становлюсь подозрительным. Эти болваны неверно истолковывают мои теории, но на сей раз я докажу им, что… Дойл, и вы, Пикар, — внезапно перебил он сам себя, — есть ли у вас оружие, пригодное для охоты на крупную дичь? Свои ружья я, к сожалению, оставил в Лондоне.
Дойл покачал головой, я поступил так же. Всего за несколько минут сей поразительный молодой человек обрел над нами такую власть, что я даже согласился передать ему руководство нашими последующими действиями.
— Жаль! В таком случае, с наступлением темноты нам придется ограничиться простой разведывательной вылазкой. И тем не менее с этим делом нужно покончить как можно скорее — у меня предчувствие, что худшее, возможно, еще впереди.
— Сегодня вечером я должна петь, — сообщила Ирен после паузы.
— Это предпоследнее выступление Ночной Орхидеи, а мое место — в первом ряду хористок. Если я не приду, меня могут уволить. Ждите меня у служебного выхода после представления. Там будет и мой брат.
— Вы точно этого хотите? — запротестовал я. — Опасность…
— Мишель считал, что я заслуживаю лучшего из того, что он может предложить, месье профессор. И я не предам его веру в меня.
Дама опустила вуаль и наклонилась, поправляя венок у своих ног. Настал момент, когда ее явно следовало оставить наедине со своими мыслями. Когда мы снова стояли на мосту Понт-Неф, чьи кирпичные и каменные арки пересекали реку, превратившуюся из-за засухи в жалкий ручеек, я попытался отыскать взглядом найденный нами дом среди крыш вокруг «Божьего приюта». Но не сумел — словно место, где мы встретили Ирен, уже принадлежало давно минувшей эпохе.
* * *
— Акустика здесь превосходна, — заметил Дойл, когда мы выходили из здания оперы в толпе любителей музыки. — А Орхидея воистину божественна. Какой голос!
— Ну, не знаю, — возразил я. — То, что она тянула верхнее «до» гораздо дольше, чем желал Беллини, указывает на некоторую наглость. Тут она весьма напоминала стервятника, отгоняющего соперников от добычи.
— У вас слишком богатое воображение, профессор, — фыркнул Челленджер. — Но сравнение тем не менее подходящее.
Площадь перед Капитолием заливал свет газовых фонарей, чьи желтоватые ореолы отражались в зеркалах кафе. Аркады, переполненные любителями поздних прогулок, не удивили старого тулузца вроде меня, зато, похоже, привели в смятение Челленджера. Несмотря на все уговоры Дойла, тот отказался переодеться в вечерний костюм — сам Дойл остался в мундире. И теперь мы с Челленджером смотрелись поразительно контрастно: я неторопливо, как и подобает моему возрасту и общественному положению, вышагивал с тростью в руке, а он молодым быком рвался вперед, пытаясь пробиться сквозь компактную массу тел, не желающих уступать ему дорогу. В моем городе ритм — ключ ко всему. Передвижение в потоке тулузских пешеходов есть тонкое искусство, которым я хорошо владею. Но как я мог обучить нюансам вечернего променада англичанина, только что вернувшегося из монгольских степей?
Читать дальше