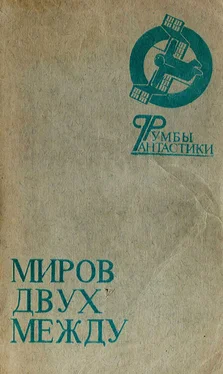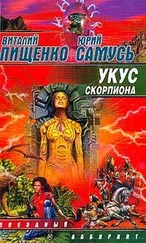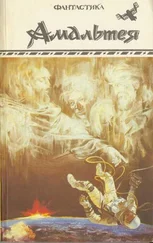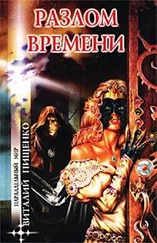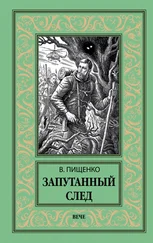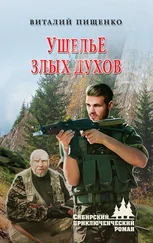Литература новых представлений о грядущем, совершенно очевидно, могла возникнуть только в эпоху достаточно существенных изменений облика мира за время жизни одного лишь поколения людей. Естественно, мера достаточности такого рода изменений четко коррелируется с образовательно-культурным уровнем различных слоев населения. Даже в середине прошлого века она была чрезвычайно неодинакова для, скажем, полуграмотного российского крестьянина, с одной стороны, и, с другой — для писателя В. Ф. Одоевского, раньше Ж. Верна ощутившего потребность приступить к созданию научно-фантастического романа (этот роман под названием “4338-й год”, к сожалению, не был окончен). Высокообразованному, проницательному и хорошо информированному человеку было, бесспорно, легче уловить биение пульса нового времени (этим же, кстати, объясняется феномен еще более ранних, “дожюльверновских” научных фантастов — Т. Кампанеллы, И. Кеплера и др.). Но с каждым годом темп изменений привычного облика повседневности нарастал буквально по экспоненте: уже сын потревоженного нами для сравнения сельскохозяйственного персонажа располагал информацией о железной дороге, паровозах, локомобилях, дагерротипии, телеграфе, пароходах и, главное, — о машиностроительных заводах.
А внук? Внуку пришлось иметь дело с автомобилями, тракторами, аэропланами, кинематографом, беспроволочным телеграфом, а во время службы на флоте — со сложнейшими механизмами, электромашинами и механоавтоматикой броненосцев и подводных лодок. Техника в союзе с наукой обеспечила условия полной победы крупной машинной индустрии, попутно обострив социальные противоречия до детонации. Отполыхали войны и революции, и вот уже миллионоградусные термоядерные вспышки высветили длинный ряд глобальных неурядиц, взревели двигатели космических кораблей, ноосфера Вернадского содрогнулась от опережающих друг друга взрывов — демографического, экологического, информационного… Казалось, грядущее опережает сроки своего прихода, волны его вдруг обрели способность захлестывать настоящее. Для сравнения: в первой четверти прошлого века часовых дел мастерами были созданы первые в мире миниатюрные часы для ношения на руке (заказ жены Наполеона I Марии Луизы), а в последней четверти нашего века автоматическая межпланетная станция прислала нам из космических далей четкие фотографии Урана и его загадочных спутников! Со дня создания первых наручных часов до момента высадки людей на поверхность Луны прошло всего полтора столетия! За каких-нибудь три десятка лет человеческий разум создал себе в помощь разветвленную систему усилителей интеллекта — комплексы электронно-вычислительной техники, и сейчас ни у кого не осталось сомнений, что овладеть стремительно меняющимися ситуациями в современном мире будет способно только общество высокой компьютерной компетенции. Жанр НФ психологически готовит люден и к этому.
Выводы. Научно-технический прогресс, очень бурно преобразующий ноосферу планеты, всего за двести последних лет многотысячелетней истории цивилизации сместил рычаг глобальных усилий человечества в область весьма напряженных (продиктованных экономической и военной необходимостью) повседневных забот о быстром совершенствовании технологии и тем самым возбудил интерес к ожидаемым результатам. Другими словами, быстрота научно-технического прогресса породила понятие о грядущем через понятие о настоящем как о строительной площадке грядущего. В этой связи жанр научной фантастики — суть литературно-художественный источник новых представлений о грядущем. Ни один другой жанр художественной литературы новыми представлениями о грядущем специально не занимается (в том числе и “фэнтэзи”), поскольку их арена художнической деятельности — настоящее (в том числе и как строительная площадка грядущего).
В чем только ни обвиняли научную фантастику! И любопытно, что самые хлесткие, самые “уничтожительные” обвинения в ее адрес исходили… из дружественного, казалось бы, лагеря мастеров “фэнтэзи”. Наиболее модный из последних доводов обвинения: научная фантастика уделяет слишком много внимания научно-техническим перспективам цивилизации и слишком мало — человеку, его желаниям, нравственности, страстям, и тем самым, дескать, научная фантастика берет на себя задачи научно-популярной литературы или подменяет ее собой.
Ну что на это ответить… Вряд ли кто-нибудь из любителей фантастики, знакомясь с творчеством Ж. Верна, ощутит желание упрекнуть писателя в “обесчеловечивании” жанра НФ. Надо ли специально доказывать, что не дают повода к такого рода упрекам научно-фантастические романы Г. Уэллса “Человек-невидимка”, “Война миров”, “Машина времени”, “Остров доктора Моро”, “Война в воздухе”, “Пища богов”? А романы А. Беляева “Звезда КЭЦ”, “Человек-амфибия”, “Голова профессора Доуэля”? Может быть, слишком мало внимания уделено человеку, его нравственности, желаниям, страстям в научно-фантастических шедеврах И. Ефремова “Туманность Андромеды”, “Час Быка”, “Сердце Змеи”? Или в научно-фантастических романах Ст. Лема “Эдем”, “Солярис”, “Непобедимый”, “Возвращение со звезд”? А может быть, в “обесчеловечивании” своих научно-фантастических произведений преуспел А. Кларк (“Одиссея 2001-го года”, “Лунная пыль”, “Возвращение Рамы”, “Фонтаны рая”)? Или А. Азимов, которого называют “самым научно-фантастическим из научных фантастов Запада”, в своих романах “Стальные пещеры”, “Конец вечности” и в знаменитом цикле рассказов “Я, робот”?..
Читать дальше