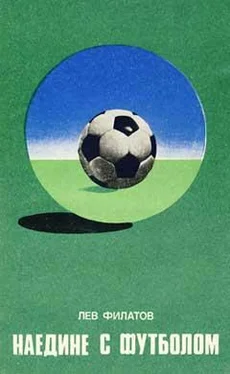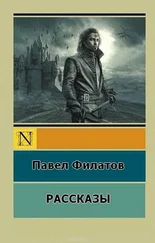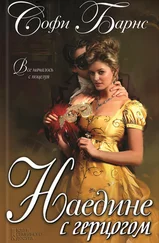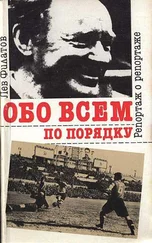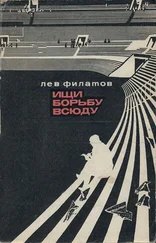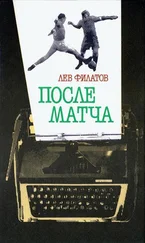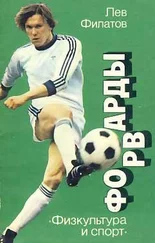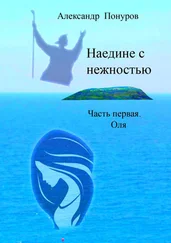Тираж телевизионной передачи непостижим. Когда я вел первые репортажи, то наивно радовался, видя, что стадион полон; мне думалось, что в этом случае меня слушает поменьше людей. И уж во всяком случае я рассчитывал на внимание одних болельщиков. Не тут-то было! На следующее утро оказывалось, что тебя слушали и вахтер редакции почтенная Оксана Алексеевна, и продавщица булочной, и подруги дочери; и двоюродная сестра, которую года три как потерял из виду, объявлялась со своими впечатлениями, и из-под Астрахани приходила внеочередная открытка с приветами от свояков, звонили школьные товарищи, однополчане… Ну и, само собой, письма, и одобрительные и ругательные.
Не скрою, вначале весь этот ералаш тешил. Но, попривыкнув, я стал и досадовать и обижаться. Ну чего ради люди, ни капельки не интересующиеся футболом, не выключают телевизор? Что за всеядность? Да и с какой стати устные, подчас сбивчивые, толком не продуманные разглагольствования вызывают такой ажиотаж, тогда как мы, журналисты, куда глубже и четче пишем о жизни игры, а наша работа воспринимается куда сдержаннее!..
Позже я разобрался и успокоился: каждому жанру свое. Если отклики на телерепортаж сугубо эмоциональны («гнать вас метлой от микрофона» или «для нас с женой праздник, когда мы слышим ваш голос»), то ответ на статью, как правило, обстоятелен, продуман, независимо от того, согласен с тобой человек или возражает.
Почему же даже не разноречивы, а прямо-таки воинственно противоположны суждения о телекомментаторах? Кажется, ничего не было бы легче, чем организовать клубы поклонников Озерова и Орлова, Перетурина и Маслаченко, Саркисьянца и Махарадзе. И уж погорячились бы, подрали горло ораторы этих клубов! А где взять аргументы, которые бы их урезонили и развели? Их нет. Потому что оказывается, кто-то в комментаторе превыше всего ценит тембр голоса, другой – осведомленность, третий – напор, ясность приговоров, четвертый, наоборот, – невмешательство и бесстрастность, а пятый и вовсе – то, что ему не мешают смотреть…
Одно время разные издания в охотку, с азартом вели дискуссии о том, каким должен быть телекомментатор, в первую очередь футбольный. Принимал и я в них участие. Вдоволь было высказано благих пожеланий, теоретических посылок и острых слов. Волна эта схлынула, – скорее всего, по той причине, что все убедились в тщетности хлопот. Все примерно было ясно. Но чего ждать?
А ждать можно только того часа, когда вдруг объявится комментатор, о котором все в один голос скажут: «Вот это то, что нужно!» Что ж, где-то, наверное, гуляет, растет этот мальчик, не ведая еще о своем призвании…
Провел я за несколько лет, должно быть, репортажей тридцать и профессиональных навыков приобрести не успел. Мне каждый раз было трудно, всегда я решал какие-то задачи, хотя можно этого и не делать: давно изобретены фразы, которыми комментаторы сопровождают те или иные повторяющиеся ситуации… Но подозреваю: если бы я сразу усвоил общепринятые стандарты, исчезло бы и удовольствие. Это легко – идти за игрой следом, называть фамилии тех, у кого мяч, фиксировать угловые, ауты, штрафные – словом, говорить о том, что и без того видно на экране. Не требуется ничего, кроме элементарного внимания. Все очарование телевизионного комментария – в импровизации. Между тем, слушая иных людей, употребляющих годами одни и те же дежурные фразы (и всегда с выражением!), начинаешь думать, что футбол одинаков и однообразен, меняются только названия команд, фамилии игроков и цифры счета.
Но что за штука – импровизация? Наверное, было бы нелегко ответить, если бы не существовал комментатор Вадим Святославович Синявский, лучшие репортажи которого до сих пор помнят многие.
Познакомился я с Синявским, когда он был знаменитым, после того, как переслушал сотни его футбольных и шахматных репортажей. А познакомившись, так до конца и не мог избавиться от радостного изумления, что слышу его голос не из репродуктора, и, о чем бы мы ни вели разговор, ловил и узнавал знакомые интонации, выразительные, «говорящие» паузы, характерные словечки, и наслаждался тем, что могу слушать Синявского, так сказать, сверхурочно, вне радиопрограмм, один, сколько душе угодно.
Мы были вместе в 1961 году в Лозанне на хоккейном чемпионате мира, рядом жили и работали, много ходили и ездили вдвоем, как всегда в таких случаях, обсуждали каждую малость из того, что удалось подметить, и не только на льду стадиона, но и на улицах, в кафе, в скверах этого безукоризненного и равнодушного городка. Вместе отправились взглянуть на Шильонский замок, на дом Чаплина, проехались по берегам Женевского озера. И все эти дни приятельского общения для меня были наполнены репортажем Синявского, потому что обо всем: о случайно встреченных людях, о пейзажах, о вкусе кофе, о глупо пропущенной шайбе, о новеньких в нашей команде братьях Майоровых, Старшинове и Рагулине и о «старом» Сологубове – он судил так, словно перед ним был микрофон: коротко, экономно, подбирая слова поточнее, которые заставили бы слушателя увидеть то, что видел он, и, мало того, еще и согласиться с его точкой зрения, с его мнением.
Читать дальше