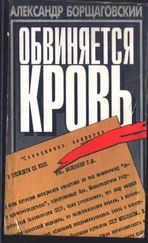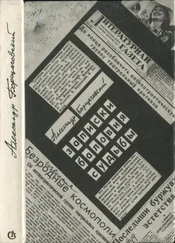А как они хотят жить! Как нежно и преданно любят близких, как зримо встают перед ними в эти последние перед гибелью часы картины довоенной жизни, годы любви и доверия; как заботливо думают они о будущей жизни, в которой им не суждено жить; как умно и естественно ощущают связь своей единственной и обреченной жизни с жизнью народа, свою ответственность за эту общую жизнь.
Мысль о том, что «смерть – это не победа», что «смерть – это смерть» и она, мол, ничего не доказывает, глумливый шепоток, что на гибель может пойти только отчаявшийся, показалась бы им кощунственной: ведь все это и твердили им палачи в паузах между истязаниями, пытаясь сломить их волю. Может ли истина совпадать с иезуитскими аргументами врага? Нельзя без волнения читать строки, в которых юноши и девушки, обреченные на смерть, учат выдержке и спокойствию отцов и матерей, стремясь приобщить их к высокому миру своих идеалов. Они, только начавшие жить, пишут взрослым о том, что человек смертен и все дело в том, чтобы прожить свою жизнь честно и достойно.
Критикуя опрометчивых киевских динамовцев, ирбитский аноним искренне желает им жизни: надо жить, бежать из города, не играть матча с «Легионом Кондор». Хорошо бы так, а ведь не получилось, не вышло по рассудочной схеме: была жизнь, плен, оккупационный быт, работа ради хлеба насущного, короткая передышка после лагеря военнопленных, и был матч, его не выбросить из прошлого.
И автор письма понимает, что матч состоялся, с этим уже не поспоришь. И вся страсть его упреков направлена не на то, чтобы удержать спортсменов от игры-он только не согласен с тем, как они поступили, не склонив голову и предпочтя смерть поражению. Уступите вы этот матч немецкому коменданту, западной трибуне, черту-дъяволу, стоит ли умирать ради лишнего гола, забитого в чужие ворота, честолюбия ради, гордости ради, наконец, даже патриотизма ради!
Что ж, эти сомнения не навязаны событию, они живут в нем самом, тревожа, донимая. Представим самих себя на той трибуне киевского стадиона, мы наблюдаем за игрой, знаем о грозящей казни, и неужели же мы с легким сердцем подтолкнем этих парней к гибели, обещая им в будущем ореол героев и гранит памятника?
Трудный вопрос, Я пытался ответить на него всем внутренним строем повести, судьбами людей, характерами, наконец, атмосферой фашистской оккупации. Образом Седого, который мертв еще до казни именно потому, что думал точно так, как ирбитский аноним подумает двадцать лет спустя. Образом Савчука, для которого предательство незатруднительно. Но прежде всего образами динамовцев, футболистов, собранных под родное знамя, которое незримо, запретно, но все же реяло в эти часы над стадионом.
Киевские динамовцы попали в окружение потому, что сражались на подступах к городу против наступавших с запада гитлеровцев, сражались и тогда, когда наша армия отходила на восток от Киева, а немцы заняли значительную часть левобережья. Был плен и тяжкий, подневольный труд, была оккупационная жизнь, вынимающий душу ад, но она была, и в этой жизни – среди боли, страданий, жестокости, борьбы – нам есть чем гордиться, нельзя стыдливо пробегать мимо этой жизни. Спортсмены только разделили судьбу тысяч и тысяч своих земляков и сограждан.
«А не было ли среди них уставших? – спросит скептик. – Не было ли человека, которого устраивало положение футболиста в оккупированном городе, тихая работа на хлебозаводе? Не было ли малодушного, который пересиживал, таким образом войну?»
Кто знает, ответим мы ему, возможно. Но это только значит, что команда не была чем-то исключительным, из ряда вон выходящим, а была как бы сколком с города, где все честные люди ненавидели оккупантов, но даже и ненависть не уравнивала их мужества, решимости или готовности к борьбе. Перед нами обыкновенные люди, и это превосходно; ведь чем круче подъем, чем больше расстояние от подножия обыкновенной жизни, в которой словно и не подозреваешь взрыва, до вершины подвига, тем значительнее сам подвиг, тем мощнее его народные корни. Ненависть к захватчикам, словно тяжелыми плугами, вспахивала почву, вела щедрый посев, обильно подкармливала всходы подвига, и однажды люди поразились результату. Быть может, поразились и сами футболисты – это не лишает их ореола; значит, сама возможность подвига была спрятана в глубинах души и сознания, а не лежала на поверхности.
Да, обыкновенные парни. Обыкновенные обитатели лагеря военнопленных. Обыкновенные рабочие хлебозавода, под бдительным присмотром полицаев. Обыкновенные, живущие впроголодь, тоскующие о былом, втайне помышляющие о борьбе. И, может быть, иная из жительниц города, потерявшая на фронте мужа или сына, посылала им в спину проклятия оттого, что родной человек погиб, а эти вот, с футбольным мячом под рукой, – выживут, уцелеют. А кто-то из них жил и при семье, скудной, суровой жизнью, такой же, как и десятки тысяч других обитателей города, которых мы не клянем, не зачисляем в потенциальные предатели, хотя жизнь так и не дала им повода раскрыть в подвиге лучшие качества, а футболистам дала. Они были простые люди, со слабостями и недостатками, и то, что именно они, те, от кого меньше всего ждали такой прыти, совершили коллективный подвиг, быть может, и есть самое дорогое. Это уже характеристика не отдельной выдающейся личности, а характеристика общества, его срединный разрез; когда подвиг совершает человек, от которого и не ждешь незаурядного поступка, такой подвиг впечатляет особенно.
Читать дальше