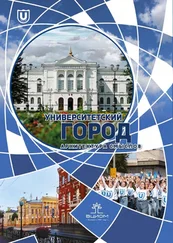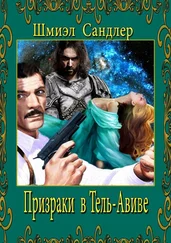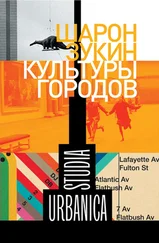И вовсе не случайно эти два образа, тщательно отобранные и достаточно мощные даже по отдельности, объединили в общий символ, создающий красивую и невинную картину. Однако горькая ирония заключается в том, что «жить в дюнах» оставили вовсе не взыскательных и модернистски мыслящих жителей Тель-Авива, а изгнанных обитателей Неве-Шаанана и Рафаха. Именно им пришлось теперь гадать, как же сберечь то, что осталось от их города.
Возможно, что больше, чем какая-либо другая архитектурная традиция, архитектура Израиля склонна отражать собственную политику. И в этом смысле история международной канонизации Белого города Тель-Авива едва ли отступает от этого правила. Более того, путь Белого города от упоминания на скромной выставке ко всемирному признанию наглядно демонстрирует, как израильская архитектура обнажала, перекраивала и использовала чужую политику, в данном случае политику ЮНЕСКО и политику в области мировой архитектуры. С точки зрения Израиля практический смысл декларации ЮНЕСКО заключается в том, что Тель-Авив теперь просто обязан перед лицом всего мира реализовать свое собственное предназначение в качестве белого города.
Что именно пообещал выполнить Тель-Авив ЮНЕСКО, принимая от нее этот статус? Очевидно, стать еще белее, очиститься окончательно. Разумеется, будь он и так белым, это мероприятие было бы абсолютно излишним. Политическая позиция ЮНЕСКО представляется еще более интересной, если учесть, что карт-бланш Тель-Авиву дали не за то, что он уже белый, а скорее за стремление стать таковым.
Есть нечто политически сомнительное в том, что белая архитектура Тель-Авива подается как часть более общего «стремления быть белым». Это по меньшей мере вызывает удивление, поскольку желание обелиться может возникнуть лишь у того, кто белым не является. Вне традиционного белого расизма, каким мы его знаем, эта концепция архитектурной белизны могла зародиться только в Европе, где белое в любом случае главенствует. Маловероятно, что «стремление быть белым» могло бы возникнуть в афро-американском или афро-европейском сообществе, и с еще меньшей долей вероятности – в постколониальной Африке, где чернокожим жителям не было никакого смысла отказываться от своего собственного цвета. Даже если, как утверждает Франц Фанон [224], диалектика «стремления быть белым» и в то же время сопротивление такому стремлению является существенной и неизбежной частью того, что значит быть чернокожим в условиях европейского гнета, такой посыл никогда не стал бы ни определяющей идеологией, ни стратегией, поддерживаемой обществом. В лучшем случае это могло бы быть индивидуальной тактикой выживания, в худшем – формой капитуляции.
На описание использования белого и поиски белого в современной архитектуре извели много чернил, и не в последнюю очередь потому, что наиболее спорным из всех известных архитектурных образов является программный белый куб. Для Ле Корбюзье – главного идеолога и пропагандиста архитектурного модернизма – белый служил идеальной основой для выверенной «великолепной игры объемов, собранных под светом неба». Для Адольфа Лооса белый был могучим идеологическим посылом, исключавшим дешевые попытки декоративного украшательства. Для целого поколения архитекторов (и их клиентов) этот цвет стал чуть ли не единственным хроматическим решением, с которым стоило работать, несмотря на бесчисленное множество других возможностей. С тех пор как белый переступил границу архитектурного поля, он стал стандартным выбором для сторонников модерна, не было смысла его чем-то заменять, так он и остается в этом качестве: всегда беспроигрышное решение, всегда в моде. Среди всех цветов белый подается как естественный выбор, не требующий ни пояснений, ни оправданий, – точно так же, как прямоугольник считается у проектировщиков «естественной» конфигурацией по сравнению с другими формами зданий [225]. «Вы можете выбрать любой цвет – главное, чтобы он был белый», – такую присказку часто можно услышать в архитектурной студии или на строительной площадке.
Когда речь идет о голой стене, белый воспринимается как чистый лист, как основа или фон – идеальный для того, чтобы подчеркнуть игру теней в солнечном свете снаружи или же показать картины, мебель либо другие объекты при искусственном освещении внутри помещения. Выбор белого по умолчанию, скорее всего, сложился естественным образом – изначально он рассматривался как самый минималистичный пигмент, выражающий некий стандарт, нейтральность, норму и универсальный порядок вещей. Со временем белый оброс новыми понятиями, у него появились дополнительные качественные характеристики: чистый, гигиеничный, свежий, оригинальный, наивный, девственный [226]. Внезапно цвет, который раньше являлся стандартным, обрел широкий спектр возможностей и стал полем для самых разных ассоциаций – аскетично белый, как доминиканский монастырь, гедонистичный, как средиземноморская вилла, классический, как греческий храм, современный, как нью-йоркский лофт, или минималистичный, как японский бутик.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

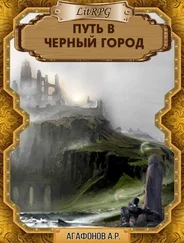

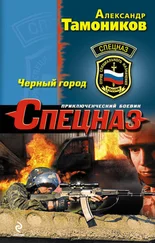
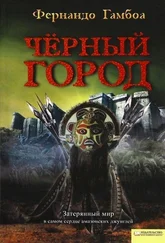

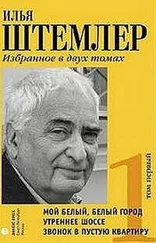
![Шарон Зукин - Культуры городов [litres]](/books/387249/sharon-zukin-kultury-gorodov-litres-thumb.webp)