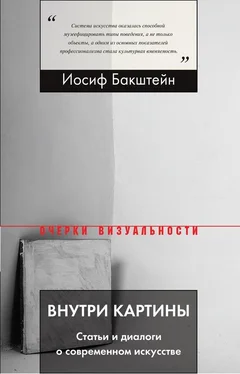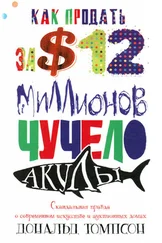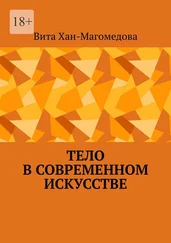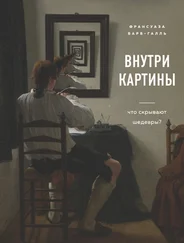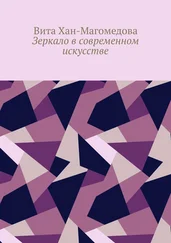Еще раз о соотношении визуального и вербального в русском искусстве: художники в России традиционно одержимы содержанием своего визуального высказывания, содержанием, которое можно пересказать словами. Он/она никогда до конца не верит в самодостаточность визуального высказывания, за которым всегда стоит сложная история того события, которое стало поводом для картины. Поэтому и обосновано мнение о том, что искусство в России всегда было концептуально. Просто художники в России, как персонаж Мольера, не знали, «что говорят стихами». Дело в том, что содержание, нарратив, контекст часто, а скорее, как правило не могли быть открыто высказаны по цензурным соображениям и поэтому были важнее пластических свойств изображения.
Так, знаменитая картина великого русского художника Исаака Левитана «Владимирка» (1892 г.) стала знаменита не только и не столько тем, как написан пейзаж, а своим названием, тем, что по дороге, изображенной на картине, дороге, название которой стало названием картины, полиция царской России отправляла из Москвы в ссылку партии политических заключенных, что, естественно, было известно всем участникам художественных событий и зрителям тех лет.
Историческим достижением МК было то, что его адепты осознали эту имманентную концептуальность русского искусства, его обремененность «содержанием», неустранимый дисбаланс формы и содержания и стали создавать произведения, в которых рефлектировалась именно эта русская специфичность. В отличие от концептуализма кошутовского образца, где деконструировался предмет изображения (классический пример самого Кошута: стул, фотография стула и описание стула в словарной статье), МК в свой классический период деконструировал разрывы внутри семантики советского (и шире – русского) эстетического мейнстрима.
Однако с марксистской точки зрения «рефлектирование предмета не приводит к его перепредмечиванию». Так и рефлексия МК по поводу идеологического и просто литературного содержания оставляет художественный результат рефлексии обремененным этим содержанием, с присущей ему повествовательной избыточностью. Мы хотим этим сказать, что даже произведения авторов из круга МК всегда рискуют оказаться не больше чем очередным «этноклише».
Продолжая модернистскую традицию, Кабаков, анализируя и синтезируя различные пластические приемы советского искусства, создал свой синтетический живописный язык, концептуализировав саму живописную поверхность, причем парадоксальным образом эта синтетичность видна не только сквозь оптику «советского взгляда», но и невооруженным взглядом интернационального зрителя, незнакомого со стилистическими особенностями комбинируемых Кабаковым стилей.
Ту же функцию рефлексии содержания, которую не в состоянии выразить никакая визуальная форма, выполняет и «тотальная инсталляция» Кабакова. Здесь одним из приемов является содержательная избыточность, невозможность охватить одним взглядом и тем более проинтерпретировать все то многообразие, которое представлено в «тотальной инсталляции».
Аналогичные приемы были разработаны Комаром и Меламидом в соц-арте – исторически первой систематизации современного художественного мышления в послевоенной российской истории. Комар и Меламид говорили о том, что если поп-арт появился в странах, где происходило перепроизводство вещей и вообще торжествовала консумеристская ментальность, то соц-арт – это художественное явление в стране, где имело место перепроизводство идеологического содержания в любом, особенно публичном высказывании.
Таким образом, можно сказать, что моделью произведения изобразительного искусства является в случае Кабакова – книга (не случайно он был в свой советский период известным книжным иллюстратором), а в случае Комара и Меламида – политический плакат.
Нам осталось объяснить, почему искусство в России так зависимо от «содержания» и почему оно сумело только один раз вырваться из его объятий – в русском авангарде? Дело в том, что форма имеет своего субъекта и оставляет свободной зону содержательных интерпретаций. Когда содержание визуального высказывания начинает доминировать, а сам визуальный знак начинает нуждаться в объяснении, более того, когда этот знак становится простым оформлением предзаданного нарратива, изображение становится иллюстрацией.
Осознание этого обстоятельства привело к тому, что в МК текст (как источник содержания, как инстанция более важная и существенная, чем определяемое этим текстом изображение, – лишь иллюстрирующее текст) мотивированно становится основным предметом изображения, и именно это и объединяет МК с интернациональным концептуальным искусством.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу