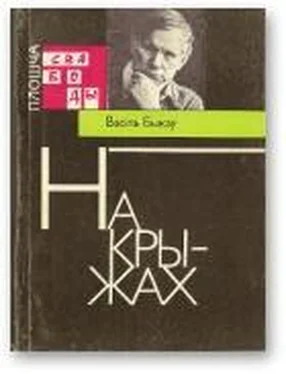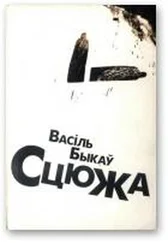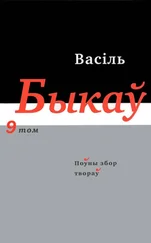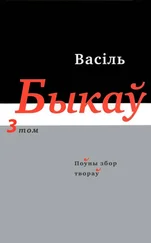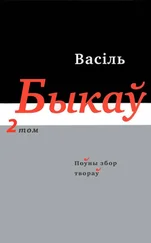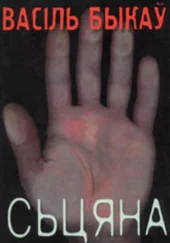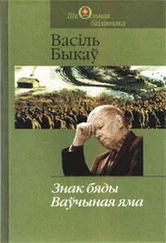Так не в том ли состоит долг ныне живущих, наших научных кадров, интеллигенции, правоохранительных органов, чтобы объективно и беспристрастно разобраться поименно во всех жертвах прошлого с позиций нового, более высокого коммунистического сознания, с высоты наконец ставшего возможным милосердия, о котором мы с таким жаром принимаемся говорить сегодня. Вместо того мы видим в ряде публикаций республиканской прессы («Советская Белоруссия», «Звязда», «Политический собеседник») запоздалые и очень знакомые по прежним временам попытки реанимировать во многом забытые обвинения, заимствованные ныне из пожелтевших архивных дел, обвинительных заключений и приговоров пресловутых «троек», «особых совещаний», «военных трибуналов», клеветнических доносов стукачей, — обвинений, которые и теперь заставляют содрогаться неискушенных читателей. Следует ли удивляться, что в приснопамятные времена эти фантастические «сочинения» безошибочно приводили к расстрелу.
Как мне кажется, именно здесь мы подходим к самой болевой точке проблемы, которая таит в себе ключ к разгадке многих современных загадок.
Иногда даже в наше время трудно удержаться от недоумения: откуда такая нетерпимость к прошлому и его людям, идеям, влияние которых на нашу жизнь практически утратило свое сколько-нибудь заметное значение и стало в иных случаях лишь досадным фактом нашей истории (в смысле заблуждений и ошибок)? Откуда такой поразительный максимализм людей, не испытавших и десятой доли того, что довелось в силу различных, чаще всего исторических, причин испытать другим? Почему мы теперь, с высоты безусловно победившего правого дела не можем проявить элементарную терпимость или снисходительность к нашим предшественникам, общественным деятелям прошлого, пусть и в самом деле допустившим некоторые ошибки в своей общественной деятельности и лишенным за это жизни — тем самым разве не искупившим эти свои ошибки? Однако все дело в том, как мне думается, что, признав несомненную противозаконность репрессий 30-х годов, мы не можем уйти от настигающего нас вопроса: кто виноват? На тех самых "дзядах" 1 ноября 1987 года именно этот вопрос эмоциональнее других звучал в ломких молодых голосах выступающих, и, как видно, именно он более всего обеспокоил авторов публикаций в "Советской Белоруссии". Так, касаясь репрессий 30-х годов, Валентин Пепеляев пишет: "Непросты причины культа личности Сталина. Скоропалительность и однозначность оценок здесь неприемлемы. Не упростить бы, не скатиться в категоричность". Согласимся сразу и охотно: упрощать не следует, возникновению культа личности способствовал целый комплекс причин и следствий. Но вот категоричности оценок в таком вопросе, по-видимому, не 63
избежать, как бы этого кое-кому ни хотелось. Рано или поздно общество вынуждено будет вполне однозначно выразить свое отношение к каждому факту культа, к каждой его жертве и со всей категоричностью осудить методы такого рода "жертвоприношений". Напрасно автора другой статьи в той же "Советской Белоруссии" А. Майсеню настораживает"...требование публично назвать поименно не только тех, кто пострадал в годы репрессий, но и всех тех, кто в 30-е годы совершал "преступления". И далее в статье А. Майсени следует пассаж, достойный того, чтобы привести его целиком. "Возьметесь ли вы доказать, — пишет автор, — что все те, кто принимал участие в репрессиях в ту трагическую пору, были сознательными преступниками, то есть шли на это, в полной мере осознавая, что чинят произвол и беззаконие в отношении невинных людей? Нам сегодня с позиции времени достаточно видно, что многие из тех, кто осуждал, обвинял, совершенно искренне верил, что их действия — не что иное, как торжество правосудия от имени всего трудового народа, что это продолжение революционного насилия (это спустя двадцать лет после революции, в условиях победившего социализма? — В. Б.), совершенно необходимого и неизбежного во имя победы социализма, во имя претворения в жизнь извечной мечты о равенстве и справедливости? Да, они не понимали и не могли понять, что 30-е годы отличались коренным образом от послереволюционной ситуации, когда беспощадная борьба за политическую власть, за диктатуру пролетариата, борьба не на жизнь, а на смерть, требовала применения революционного насилия к классовому врагу. Да, они заблуждались, уверовав в сталинский тезис об обострении классовой борьбы по мере построения социалистического общества, послуживший оправданием гибели сотен тысяч невинных людей. Да, они жестоко ошибались, когда считали Сталина достойным преемником Ленина, а сталинизм — продолжением ленинской политики. Но ведь многие из них были искренни в своем заблуждении..." и т. д. Надеюсь, однако, странная логика данной цитаты знакома читателю, поэтому позволю себе воздержаться от комментария этого поразительного по своей откровенности текста, в котором желание во что бы то ни стало "оправдать подзащитных" опережает элементарную логику мысли. Странно видеть в современной газете этот поток умилительного добросердечия к тем, кто губил или способствовал гибели тысяч, и при этом повсеместно натыкаться в статье на трудно объяснимую непримиримость к посмевшим выразить свои, пусть даже ошибочные, взгляды. Все дело, однако, как мне кажется, в плохо спрятанной обеспокоенности за честь "подпачканного мундира", намерении утопить в мутной воде велеречивых рассуждений неблаговидные дела прошлого и избежать возможных последствий. Что ж, в общем это удается. При огромной массовости жертв прошлого достоянием гласности стало неадекватно ничтожное количество имен, с ними связанных. Лишь в последний год мы узнали фамилии клеветников, сгубивших гордость отечественной науки — академика Н. Вавилова: всей стране стал известен истязавший его на четырехстах (!) допросах полковник госбезопасности Хват. Газета "Московские новости" в номере за 3 января 1988 года сообщила потрясающие подробности о недавней реабилитации Верховным судом СССР группы московских девушек, осужденных в 1939 году за "контрреволюционную деятельность", которая, конечно же, была инспирирована определенными лицами, тут же и названными в газете: сержант органов госбезопасности Макеев, некто Кабулов, лейтенант Якушин. Примечательное сообщение! Пленум Верховного суда СССР не только реабилитирует жертвы, но и называет палачей. Но это в Москве. А что же у нас, в Белоруссии? Где имена людей, сгубивших в своем «искреннем заблуждении» партийных и государственных руководителей республики Червякова, Голодеда, Шаранговича? Писателей Тишку Гартного, Платона Головача, Максима Горецкого, Михася Зарецкого, Владислава Голубка и многих, многих других? Какие конкретные условия и причины породили массовое уничтожение национальных кадров, кому это было на руку и кто столько лет радел о том, чтобы все концы были надежно спрятаны в воду? Можно пересмотреть все писательские справочники, 12 томов БелСЭ и не обнаружить ни намека на драматические события 30-х годов, а массовую смертность общественных деятелей в 1937-38 годах скорее отнести на счет непонятной массовой эпидемии. Множество вопросов в этом смысле вызывают упомянутые авторитетные издания, только ответа на них не будет. И, как показывает энергичное выступление республиканской печати с оправданием происходившего, никто на них отвечать не собирается.
Читать дальше