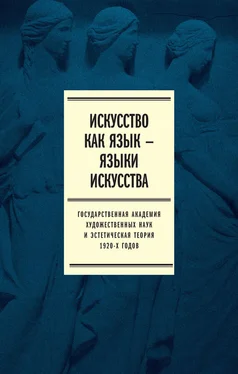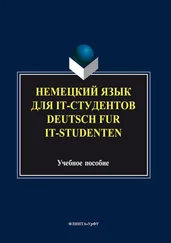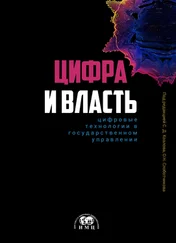В. Дильтей . Собрание сочинений. Т. III. С. 56, 57.
См.: E. Spranger. Lebensformen. S. 14 ff.
В. Дильтей . Собрание сочинений. Т. III. С. 64.
Там же. С. 129.
Об отношении между «художниками, критиками и дискутирующей публикой» ср.: В. Дильтей. Собрание сочинений. Т. IV. С. 471.
W. Dilthey. Gesammelte Schriften. Bd. 24. S. 349.
R. Eisler . Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Bd. 3. S. 1435.
См., напр.: M. Scheler. Vom Umsturz der Werte. Bd. 2. S. 156.
E. Spranger. Lebensformen. S. 14.
Ibid. S. 19.
«Под структурой мы понимаем взаимосвязь функций (Leistungszusammenhang), а под функцией – реализацию объективно ценностносообразного» (Ibid. S. 18).
См. об этом: Н. Плотников. Жизнь и история. Философская программа Вильгельма Дильтея. С. 174–176.
M. Dessoir. Systematik und Geschichte der Künste. S. 5.
Г. Г. Шпет. Эстетические фрагменты Вып. II. С. 12.
О феноменологических основаниях концепции культуры у Шпета см.: A. Haardt. Husserl in Rußland.
См. также: Г. Г. Шпет. Мысль и слово. С. 470–657.
Г. Г. Шпет. Жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. С. 455.
Там же.
Там же. С. 456.
Аналогичное представление об истории развивает Г. О. Винокур; в своем исследовании о биографии он делает акцент не на времени как конституирующем признаке исторического, а на эволюции, «исторической траектории» движения. См.: Г. О. Винокур. Биография и культура. С. 22 сл.
Представление об искусстве как языке Шпет развивает в связи с вопросом об искусстве как виде знания в своем докладе в ГАХН «Искусство как вид знания» в 1926 г. Об этом см. мою статью в настоящем томе: «Искусство как знание. Полемика Густава Шпета с Конрадом Фидлером».
Ср., напр., суждения П. Рикёра в его статье «Герменевтика и структурализм», где оба направления рассматриваются как противоположности ( П. Рикёр. Конфликт интерпретаций. С. 37–94).
Г. Г. Шпет. Введение в этническую психологию. С. 13.
В пику известному определению формального метода Шкловским и Эйхенбаумом можно сказать, что «новая форма» возникает именно как выражение нового содержания и вследствие этого сменяет старую форму. Но здесь не происходит возврата к психологизму прежнего литературоведения, поскольку содержание – это уже не материал психических переживаний, а «выраженный смысл». В рамках анализа «эстетической структуры» само разделение формы и содержания произведения утрачивает свою эвристическую функцию.
Г. О. Винокур. Филологические исследования. С. 27.
Он же. Биография и культура. С. 41.
М. А. Петровский. Поэтика и искусствоведение. С. 121 сл.
Он же. Морфология новеллы. С. 71.
Художественная форма. С. 51–80, 125–155.
А. Г. Цирес. Язык портретного изображения. С. 135, 113.
Н. И. Жинкин. Портретные формы. С. 7–52.
А. Г. Габричевский. Морфология искусства. С. 26. У Габричевского разработка «структурного подхода» в большей степени, чем у Шпета и его коллег, ориентируется на восходящие к Гёте «морфологические» представления, с которыми Шпет как раз полемизировал (см.: Г. Шпет . Внутренняя форма слова. С. 52–53). В таком виде структурный анализ перестает отличаться от морфологического описания и классификации стилистических форм, которыми занималась традиционная история искусства.
С. Н. Беляева-Экземплярская. Музыкальная герменевтика. С. 127–138.
См., напр.: Неизданная работа Н. И. Жинкина по теории образа. С. 72–82 (тезисы доклада «Проблема художественного образа в искусствах» [1945]).
A. A. Сидоров . Три года Российской Академии Художественных Наук. 1921–1924. См.: Наст. изд. Т. II. С. 23.
Там же.
См. об этом: C. O. Хан-Магомедов . ИНХУК: возникновение, формирование и первый период работы. 1920. С. 333.
Там же. С. 335.
Там же. C. 337.
B. B. Кандинский. Схематическая программа Института художественной культуры по плану В. В. Кандинского. С. 53.
Читать дальше