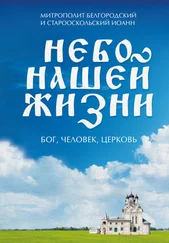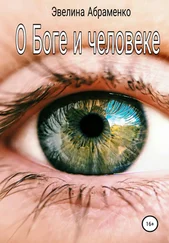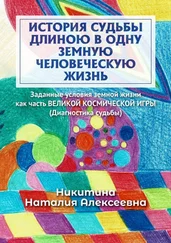. Но у меня при всей моей вере в Бога как загадку тайны совести, любви, тайны чувства греха, тайны чуда, которое лично меня сопровождает в жизни, возникает еще более трудный для христианства вопрос. И, честно говоря, странно, почему этот вопрос не возникал ни у кого из русских философов, пытавшихся найти оправдание тем упрекам христианскому учению о спасении, которые выдвинул против него Федор Достоевский в знаменитой речи Ивана Карамазова. А как будет жить и чем будет жить эта индивидуальная душа Николая Бердяева, получившая, в отличии от других тысяч и тысяч смертных, право на бессмертие, на вечную жизнь? Ведь душа, если она душа, то она живет в этом мире, в нашем мире, постоянно взаимодействуя с земным, с телесным, выбирая между добром и злом в этом мире. Если она живет и она есть, то она все время живет испытаниями на прочность. И здесь все зависит от ее способности найти свой особый, личностный смысл в этой жизни. А чем будет заниматься душа Бердяева, тем более – философа, на небесах, где уже нет конфликтов добра и зла, где нет соблазнов грешного тела, где уже не надо выяснять диалектику добра и зла и где не надо будет искать оправдание идеи Бога. Здесь, в этом мире, есть сложности с верой в Бога, ибо еще никто не пришел к нам после смерти и не сказал о том, чем живет человек в раю. Ведь проблема в том, что благодать и свет Божий изо дня в день, с утра до вечера может точно утомить такую душу, какая была у Николая Бердяева. И тогда окажется, что в страданиях и муках в аду куда больше смысла, куда больше живого, чем в спокойной мертвечине сплошной, вечной благодати в раю. Я, упаси Бог, не хочу оказаться последователем Ивана Карамазова и продолжать дело созидания сомнений в вере в Бога, но в самом учении о бессмертии, на что, кстати, уже обратил внимание Н. Бердяев, есть много вопросов, на которые до сих пор нет ответа.
Конечно, удар моей душе, нанесенный смертью бездомной кошки Лизы, был важен для меня, для моей духовной жизни. Он отвлек меня от суеты политики, которая захватила меня целиком после безумия нашей «русской весны» 2014 года. Более того, жизнь и смерть животных, и тут Бердяев действительно прав, животных как «Божьих тварей», в чем я убедился после того, как в мою жизнь в Москве почти 10 лет назад пришла с улицы моя дорогая Муся с только что родившимися котятами, напомнили мне о том, о чем мы часто забываем: что в тайне живого, которое есть рядом с нами и которое мы часто не только не видим, но и не чувствуем, есть не меньше загадочного и трудно объяснимого, чем в тайне искупления грехов, о которой нам напомнил Федор Достоевский своим романом «Братья Карамазовы». Живя среди кошек и дома, и на Кипре, наблюдая этот мир, я убедился, что каждая из них, из этих кошек, является таким же индивидуальным, неповторимым существом со своим особым внутренним миром, как и мы. Все, что есть у нас, есть у них, а, может, надо сказать наоборот: все, что есть у кошек, есть у нас, у людей. У каждой кошки, тем более дикой, бездомной, страдающей кошки глаза светятся по-своему. У одних кошек (я в данном случае говорю о кошках, не о котах) в глазах – вечная тоска от своей бездомности, от своей неустроенной жизни. А у других, как у сестры Лизы Ани, маленького существа, глаза почему-то постоянно светятся от радости. От радости того, что она живет. Никто из сестер и братьев Лизы не благодарит меня так глубоко и откровенно, как Аня, за то, что я впустил их в жизнь со мной, когда я приезжаю на Кипр. И, кстати, эта радость от жизни, от мира была у нее в глазах, когда она совсем маленькой пришла ко мне на балкон и постаралась понять, что это за существо – человек. И видит Бог, несмотря на мой возраст – дорога к 80 уже прямая и открытая, – я именно благодаря общению с этими кошками всерьез осознал проблему сохранения живого. Так что я чисто «зеленый», правда, по-своему. Теперь, когда я приезжаю на Кипр, я дарю, как могу, сестрам и братьям Лизы те радости жизни, во имя которых пришла ко мне в дом умирающая бедная Лиза. По крайней мере 4 месяца в году они ощущают, что у них есть дом и заботящийся о них хозяин, что им уже не надо думать о хлебе насущном.
Я не знаю, является ли чувство благодарности таким же святым чувством, как любовь. Но я вижу, что по крайней мере у диких кошек, бывших бездомных кошек это чувство благодарности развито куда больше, чем у людей. Моя Муся уже десять лет живет со мной. У нее все есть: и дом, и любящий ее хозяин, и «шведский стол», и даже ее дочь, которая живет с ней и которая безумно любит ее. Но все равно у Муси возникает потребность периодически благодарить меня за свои радости жизни, иногда – как-то неловко, когда у нее появляется возможность, она бьет своим лбом мою руку, и глаза ее светятся откровенной благодарностью. Весь день, когда я в Москве, дома, Муся и ее внучка Чернушка подставляют мне свои спины, чтобы я их гладил. И что важно: чтобы гладил одновременно, двумя руками, чтобы было все по-честному, соблюдая их равенство по отношению ко мне. Кстати, страдания от неравенства, от того, что к тебе хозяин относится не с такой любовью, как к брату или сестре, также характерно для диких кошек, которых я впустил к себе в дом. Особенно от этого неравенства страдал старший брат Лизы Коля, простой, сильный русский «парень», которого, к несчастью, раздавил автомобиль. Он страдал оттого, что его брат Барин спит со мной, а ему уготовано место на кресле рядом. Он, кстати, покалеченный, тоже приполз ко мне прощаться, страшно кричал, полежал на полу, выполз из комнаты и уже у лестницы умер. Особенно поразила водителя, который вез меня в аэропорт на Кипре, сцена прощания кошек со мной. Прощаться прямо к ждущему меня такси вышла добрая Аня, Катя и еще двое котов – Кузя и Соник, – которых оставили здесь, на Кипре, их сердобольные хозяйки и которых я кормлю уже много лет. Так вот все они, четыре существа, выстроились в линейку и, глядя мне в глаза, легли на спину и как будто кто-то ими дирижировал, три-четыре раза перевернулись. Кто знает кошек, тот понимает, что таким образом они показывают расположение к человеку и демонстрируют свою благодарность к нему. Я от этой сцены тоже обомлел, такого раньше не было. И здесь я был свидетелем выражения абсолютно бескорыстного чувства благодарности по отношению ко мне. Ведь я уже уезжал, а, может, вообще больше никогда не приеду, но, тем не менее, они считали своим долгом сказать мне «спасибо». Разве в этом чувстве нет чего-то от божественного, от тайны мира, о котором мы ничего не знаем.
Читать дальше
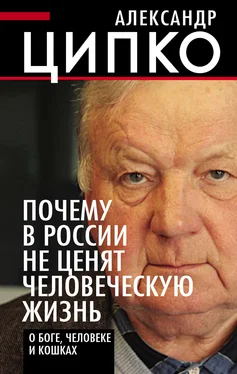

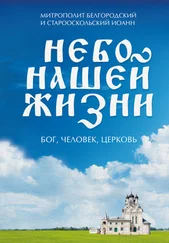

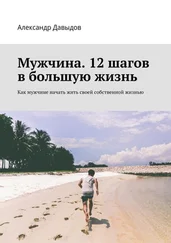

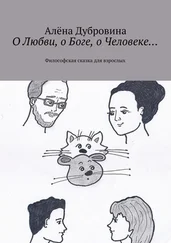
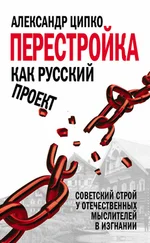
![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)