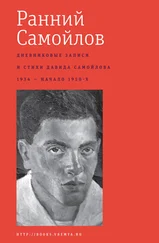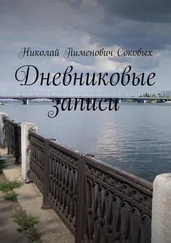И если зашла речь о Самойлове, то не могу не отметить, что с его именем связан период самого значимого роста завода и его возможностей. Новые объекты, новые технологии, новые процессы на самом заводе. Высокочастотная закалка деталей и другие способы их поверхностного упрочнения, электрошлаковая сварка, бесчисленные мероприятия по снижению трудоемкости изготовления оборудования, крупномасштабный переход с литья на сварные и сварнолитые конструкции, агрегатная обработка и поточные линии для наиболее массовых узлов – все это внедрялось тогда, в годы главного инженерства Самойлова.
Самобытный, одержимый, преданный делу и только делу человек! Таким он оставался и после ухода с завода на преподавательскую работу в УПИ. Помню, как однажды, уже на склоне его лет, случайно встретившись в коридоре заводоуправления, я задал ему стандартно-вежливый вопрос о здоровье и жизни.
– Не жалуюсь, – ответил он мне. – Но, Вы знаете, по моим годам, кажется, живу не очень спокойно: все время ловлю себя на осмысливании каких-то идей.
В нем оставался дух прежнего постоянно ищущего человека, дух бывшего, самого лучшего из всех на нашем заводе главных инженеров. Да пусть не обидятся на меня другие, что также достойны нашей памяти.
И вот по прошествии тех лет, когда в какой-либо компании заходил разговор о нашем заводе, его работе, о нам в ней чем-то нежелательном, я придумал задавать один вопрос. А не с уходом ли двух людей: С. И. Самойлова и Г. Н. Краузе (о котором я еще не раз вспомню) – Завод постепенно стал сдавать свои позиции? Конечно, я понимал всю ограниченность такой трактовки проблемы, ибо начала сдавать свои позиции вся страна, но что-то в нем, этом вопросе, было от действительного. Ведь точно так же, может по другим лишь причинам, стали уходить подобные им люди – представители первой волны соцстроительства – и в других местах.
26.09
Сегодня исполнилось 150 лет со дня рождения физиолога Ивана Петровича Павлова, который состоявшими на службе прагматика «всех времен и народов» Сталина был превращен чуть не в главного апологета естественнонаучных основ диалектического материализма. Знаменательны в этом плане взаимоотношения между марксистским ортодоксом Бухариным и таким же фактически ортодоксом, но в физиологии, Павловым.
Начались они с непримиримой критики: одного – «в догматическом характере марксизма», а второго, как и должно в подобных спорах, – в столь же догматической обывательской «точке зрения». Павлов при этом, надо признать, выглядел, несмотря на всю его ортодоксальность, много сильнее, чем Бухарин, писавший в своем стандартном виде: красивых словосочетаний и несбывшихся мечтаний, вне логики и здравой аргументации. Так в споре прошло несколько лет, пока Бухарин, надо полагать, не получил «соответствующих указаний». Он встречается с Павловым «на равных», поет ему разные дифирамбы, в чем-то соглашается с его критикой, чего-то обещает… и между ними мгновенно, в полном согласии с марксистским «бытием, определяющим сознание», устанавливается тесная дружба. Павлов становится активным защитником советской власти, а Бухарин избирается Академиком, возглавляет Институт истории науки и техники, регулярно наезжает в Ленинград и всякий раз встречается там со своим новым коллегой. Такова метаморфоза!
Условные рефлексы, пригодные, разве, для объяснения поведения червяка; диалектический материализм вне природного естества
всего живого – прямое следствие человеческой одержимости. Не зря еще один ортодокс, но умница, Троцкий в прямой спор с Павловым не вступал и просто полушутливо-полуиздевательски написал ему в частном письме, что его учение, «как частный случай, охватывает теорию Фрейда, с ее сублимированием сексуальной энергии». Но, в отличие от фрейдистского «полунаучного, полубеллетристического метода вприглядку, сверху вниз, оно, – писал Троцкий, – опускается на дно и экспериментально восходит вверх», а потому «оценка психоаналитической теории Фрейда под углом зрения теории условных рефлексов составила бы благодарную задачу для «одного из Ваших учеников…». Такова в данной истории реакция Троцкого!
До чего же приятно чувствовать себя не зацикленным на чем-либо нормальным человеком. К этим трем одержимым «светочам» мировой мысли я относился всегда критически и не менял взглядов на них со студенческих лет.
Ну, а при чем тут Сталин? Все говорит о том, что именно по его указанию Бухарин «влетел» в очередной раж демонстрации своих «интеллектуальных» возможностей перед Павловым, неадекватно воспринятых последним… Но в полном соответствии с желаниями Сталина по использованию имени ученого для пропаганды достижений страны Советов и ее Главного строителя. Горький, Толстой, Куприн, теперь еще и Павлов – все для одного и того же. Драчка Бухарина началась при Ленине, а мир между ними – при Сталине.
Читать дальше
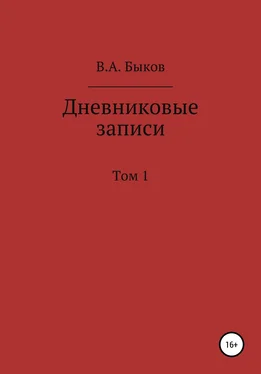
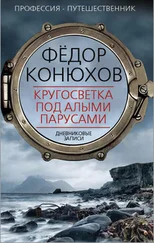
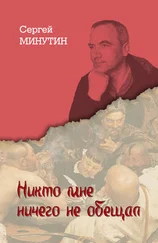

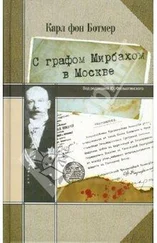
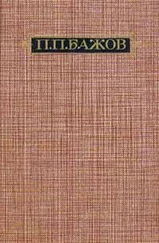
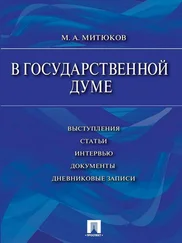
![Давид Самойлов - Ранний Самойлов - Дневниковые записи и стихи - 1934 – начало 1950-х [litres]](/books/431447/david-samojlov-rannij-samojlov-dnevnikovye-zapisi-i-stihi-1934-nachalo-1950-h-litres-thumb.webp)